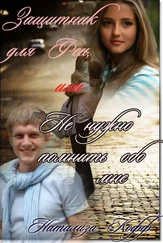Заново на долгом пути открывал он для себя мир, в котором струилось нежаркое солнце, маняще покачивались и позвякивали ветви обнаженных деревьев и где было так просторно и уютно ощущать себя странником, вечным скитальцем. Порой он спрыгивал с саней и шел пешком или вовсе сворачивал с дороги, выбирал укромное местечко где-нибудь на поляне и часами просиживал в полной неподвижности, глубоко и жадно вдыхая смолистый аромат жизни. Прошлое, даже недавнее, иногда представлялось приснившимся, нереальным, и не находило в душе былого тревожного отклика. Ему было грустно — и только. «Вот надо же так, — горько думал Сухинов, — прожил тридцать один год, а ничего толком не разглядел и не понял. А все потому, что прожил свои годы спеша, торопясь, чего-то всегда добиваясь, совсем не так, как следует жить доброму христианину. Разве есть на свете что-нибудь светлее этого неба и что-нибудь вкуснее замерзшей хлебной корки, когда она растает во рту? Разве не счастливее я был, когда помогал отцу варить соль и разводить овец, когда совесть моя была чиста и не проколота тысячами острых булавок, когда каждый день открывался заново, как вечность? О, какое же неразумное, ненасытное создание человек, сам себя ежеминутно подталкивающий к погибели».
Иногда он посмеивался сам над собой, думал, что лучше других его бы сейчас, наверное, понял Матвей Муравьев со своей проповедью смирения и всеобщей благодати. Чаще, чем кого-либо другого, вспоминал Сухинов девушку Марину, несбывшуюся невесту, шептал ей ласковые слова, обнимал по ночам ее бархатистые плечи; в все эти воспоминания, особенно под утро, томили его и душили, и раскачивали, и давили мягкой розовой зыбью. От них на губах оставался солоноватый привкус.
Действительность, свирепая и неотвратимая, подстерегала его за каждым поворотом. Однажды на постоялом дворе, когда он ужинал кашей с мясом, расположившись так, чтобы видеть входную дверь и чтобы окно было под рукой, к нему подсели два человека озабоченно-унылого вида. На Сухинова они не обратили внимания, но так и вытянули шеи, когда в комнату вошел высокий смуглый человек в ямщицком тулупе. Сначала переглядывались многозначительно, потом достали какую-то бумагу и стали оттуда что-то друг дружке вычитывать. Это явно было описание его, Сухинова, внешности. Только почему-то было отмечено, что он говорит «сипливым голосом».
Сыщики, сверив приметы по описи, еще больше укрепились в своем подозрении и, оставив ужин, подошли к ямщику. Они с ним долго беседовали, проверяли его подорожную, потом вернулись за стол недовольные.
— Эй! — крикнул один. — Человек! Подай водки!
— Кого, что ли, разыскиваете? — вступил в разговор Сухинов. Сердце его билось сильно и сладко.
— Тебе какое дело? — огрызнулся тот, что крикнул водки, с квадратными бакенбардами.
— Может, помочь могу. Я шибко приметливый.
— Смотри, приметливый, уши оторвут.
Однако, испив водки, служивые подобрели, размякли. Дали Сухинову читать бумагу.
— Грамоте не обучен, — сказал он, поднося бумагу к глазам, а после ее для чего-то понюхав. — Вы бы словами разъяснили.
— Человека одного надобно сыскать. Росту высокого, чернявый, навроде тебя, но помладше, зовут Иваном. Награда за него будет большая.
— Ай убил кого чернявый-то этот?
— Из злодеев самый что ни на есть злодей. Мы его третий день по степи шукаем. Как сквозь землю провалился.
— А ножку он не волокет?
Сыщики насторожились.
— Да ты, никак, его встречал?!
Сухинов словно в раздумье потер виски. Пожаловался:
— У меня на сухую глотку завсегда память отшибает. С детства так-то. Как меня, значит, пьяный ухарь колом по башке приласкал.
Молодцы уставились на него недобро. Сухинов невинно моргал. Заказали еще штоф, деньги-то все одно казенные.
— Пей да не заигрывай! — предупредил старший, солидный мужчина, как сейчас разглядел Сухинов, с мордой, пересеченной узким шрамом от виска до рта. Видно, кого-то когда-то разыскал на свою беду.
— Благодарствуйте, люди добрые! — Сухинов сделал вид, что пьет, зажевал капусткой, умильно сощурился. — Ах, хороша стерва, как огнем прожгла.
— Ну? Говори!
— Чего говорить-то, родимые? Приказывайте, воля ваша.
У обоих враз дружно заходили на скулах желваки.
— Ты, малый, с нами не шути. Мы тебя мигом урезоним в участок.
Сухинов скромно потупился, точно испугавшись. Задумчиво глянул, сказал назидательно, но вроде и с опаской, вроде обиженный:
— Зачем же так сразу за ноздри брать? Я человек смирный, жизнью поковерканный. У меня от страха упадение кишок может произойти… Насчет кого вы интересуетесь, я его в позапрошлом году на ярмарке в Херсоне видал. Это у кого угодно спросите, он там был. И точно злодей! Зубья — во, торчат, из пасти пламя, он на цепу сидел рядом с медведем. Я как на него тогда глянул, так и подумал про себя: «Ну все, братец, недолго тебе с такой образиной людей стращать, скоро тебя возьмут в оборот».
Читать дальше
![Анатолий Афанасьев ...И помни обо мне [Повесть об Иване Сухинове] обложка книги](/books/394501/anatolij-afanasev-i-pomni-obo-mne-povest-ob-cover.webp)