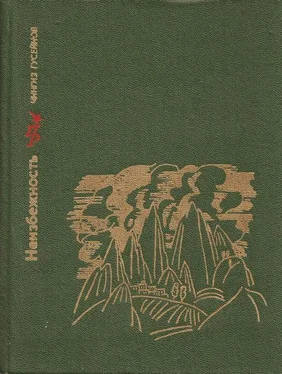А Фатали вдруг вспомнил ржанье гнедого коня, обиду, негодованье, боль, — отец схватил его под уздцы и с размаху ударил плетью по шее, и на шкуре остался след — темная широкая полоса. Конь вздрагивает, брызжет слюной, а отец ему: «Вот тебе! Вот тебе!..» А рядом разинутая пасть домотканой ковровой сумы — хурджина, из которой только что вылез, как же он уместился? Фатали.
«Я посажу Фатали в хурджин, а в другое гнездо… кого же в другое, а? — оглядывает дочерей от старшей жены. — А в другое тебя!» — и сажает ту, что спасет Фатали, переменив его судьбу. В хурджине тесно, бок коня крепкий, как стена, что-то стучит молотком гулко-гулко, не шевельнуться, больно коленкам и локтям, трутся об узлы ковровой ткани. Едут и едут, он и сестра, в двух гнездах хурджина, и оба слышат большое сердце коня. «Ах ты тварь!..» — и плетью по шее: конь оступился, дрогнула нога, чуть не свалился на бок, где Фатали.
Фатали помнит коня — нечто высокое и недоступное, дрожит ноздря и в глазах испуг. Помнит осла, в больших глазах которого всегда горькая-горькая тоска, будто не овсом его кормили, а полынью. И помнит верблюда, гордого и равнодушного, слышит голос караванщика, прерывающего на миг звон колокольчиков, привязанных к шее верблюда.
Чистейшее везенье, фатум!
Шаги верблюда, убаюкивающе-медленные, переносили Фатали через Араке из сонной Азии в бурлящую Европу, хотя и здесь не совсем Европа, и даже за Кавказским хребтом еще далеко до Европы, немало примешано всякого однообразно-монотонного, как пески, сонного, дурного и жестокого, уже невмоготу, а ты потерпи и познаешь самую совершенную и сладостную любовь — подчиненье силе, а когда воспоешь ее, и вовсе почувствуешь себя ее частицей, и голос твой на высокой ноте упоенно зазвучит, сливаясь с другими голосами, и в каждой трели — окрыляющее: я верноподданный!
Развод?! И Мамед-Таги ударил Нанэ-ханум, А потом затряслись руки… Лишь имя грозное, а сам вроде теста. Мак и Мята не ужились, и Мамед-Таги привык к нытью младшей жены, будто комар из близкого болота звенит над ухом в тихий вечерний час перед сном. У Нанэ-ханум лихорадка, тело ее покрылось крупными пятнами, а по ночам чем не накроешь, дрожи не унять,
— Эй, Фатали, вставай!
Фатали никак не откроет глаза.
— Вставай же! — Сестра чуть не плачет. А он сядет на миг и, как куль, снова валится на ковер мимо подушки. — Мама уезжает! Ты ее больше никогда не увидишь!
Вскочил:
— Где?!
И на улицу.
А там мать с заплаканными глазами, стоит верблюд и меж его горбов крепят хурджин.
Бросился к матери на шею: — А я? Как же я?!
И погонщик вдруг к Мамед-Таги: — Да отпусти ты его с матерью!
Мамед-Таги на силу закона надеется: сын принадлежит отцу и при разводе остается с ним. Но кем он будет здесь, его сын? А Мамед-Таги хотел бы видеть его… Кем? Он отдал его в ученики к сельскому молле. «Мясо твое», бей, истязай, даю тебе права, «а кости мои», бей не до смерти! Так кем же? В Шеки он видел: молодой, в погонах, фуражка на голове, гяур распоряжался солдатами, мост разрушенный строили. «Может, и Фатали станет мосты строить?» Ноги изодраны, сколько рек перешел, не запомнил, как их называют, то мутные, то чистые, камни скользкие, острые, нога попадает между ними, исцарапана до крови нога, в холодной воде кровь не видна. Будет строить мосты, а здесь что? «Что же ты будешь делать здесь, сын мой?!»
Бренчит колокольчик, Фатали смотрит, как плывет горизонт, домик уменьшился, отец… по папахе узнает, что это отец, сестра стоит рядом, та, что разбудила, темный платок на голове, пока не чадра, но скоро, очень скоро вся будет укрыта с головы до ног.
«Эй, Фатали!..»
И развод, и возвращение на родину не без ведома Ахунд-Алескера — он живет почти рядом, в селе Хоранид, куда переселился в свите покровительствующего ему бывшего правителя Шеки Селим-хана, — его жены, дети, слуги, верблюды, телеги, арбы, кони, скот, навьюченные ослы, овчарки, пастухи, собственная охрана, еще какие-то люди; а неподалеку, в местечке Шюкюрлю, в часе езды на добром скакуне, ширванец Мустафа-хан, тоже покровительствующий ученому человеку Ахунд-Алескеру; ханы без ханств, и он обучает ханских детей мусульманской грамоте. «О боже, как ты коверкаешь арабскую речь!..» Ахунд-Алескеру постелили на лужайке, и бабочка, приняв маковый узор на паласе за цветок, села на него, Фатали не сводит с нее глаз и невпопад отвечает на вопросы своего нового учителя, дяди матери Ахунд-Алескера. Нанэ-ханум лежит в шатре, хворь у нее не проходит, только в первые дни, когда кончилось черное время в Хамнэ, она чувствовала себя лучше. Ушла головой под толстое, набитое шерстью одеяло, и лишь изредка доходит до нее голос Ахунд-Алескера — он ей за отца и сыну ее — как отец; ей теперь пожить бы, молода еще, что она видела?
Читать дальше