«Я устал, – сказал он себе, вставая. – Глаза утомились. Похожу, посмотрю на зелень деревьев, на воду ручья».
Он вышел на узкую террасу дома и разглядел на коре чинар все извилистые морщины, на ветвях – каждый лист с каждой прожилкой в нем. Подобрал под опорным столбом сухой опавший, свернувшийся лист, – буроватое пятно без линий, складок и прочих подробностей.
Дальнозоркость! Плохо дело…
Всю жизнь он ею страдал – в переносном смысле: отчетливо видел высокое, крупное со всеми сучками, узорами – и не замечал мелочей прямо перед собой. Теперь она одолела его в смысле прямом. Но если для зрения внутреннего, философского, дальнозоркость, может быть, благо, – то с пером и чистой страницей в руках она бедствие.
Лучше всего – ясно видеть все: и то, что там, вдалеке, и то, что рядом. Что толку, скажем, озирая светлую даль, расшибать лоб о первый попавшийся столб? И дальнозоркость, и близорукость, как в смысле прямом, так и переносном, болезнь…
«Пойду поброжу». И, расстроенный, даже не заперев калитку, он взял толстую палку и потащился куда-то, угнетенный своим новым горем.
Какое длинное лето. Сколько событий. А ему все не видно конца. Проклятое лето! Скорей бы осень, что ли, наступила, с ее прохладой и влажной свежестью…
В голове продолжали звучать фразы, которые он не смог нанести на бумагу.
«Что же случилось в Бухаре в тот страшный год? Почему Рудаки, вознесенный к лазурным вершинам богатства и славы, вдруг, казалось бы, без всякой причины, рухнул в черную пропасть?
Была причина. Его погубила приверженность к карматству. Распространилось тогда в Бухаре такое учение. Карматы боролись против духовенства и богатых дехкан – феодалов за свободу сельской общины, которую те хотели закрепостить.
Но учение их было половинчатым. Рабство, к примеру они считали законным.
Немало людей в Бухаре увлекалось карматством. Даже визири. Даже эмир Наср ибн Ахмед горячо поддерживал его. Ибо это было выгодно эмиру. Свободная сельская община служила ему опорой против строптивых вассалов, правителей отдельных областей, то и дело норовивших отделиться…
Рудаки, конечно, не мог стоять в стороне от этого движения. Во-первых, потому, что он сам происходил из бедных крестьян и хорошо знал их нужду. Во-вторых, как близкий друг и подопечный эмира, он должен был разделять его убеждения.
Но, скорей всего, поэт и склонил эмира к карматству. Да, случалось в истории и такое: когда правитель более вольнодумен, чем иные из его подданных. Вообще, по всему видать, эмир Наср ибн Ахмед был личностью незаурядной. Вот о ком бы надо написать отдельную книгу. О нем и его дружбе с великим поэтом.
Но дружба эта обернулась для них бедой. Ничто в этом мире, как говорится, не остается безвозмездным – ни злое дело, ни доброе. Зашушукалось по углам духовенство, в руках начальников тюркских наемных войск зазвенели на точилах злобы кривые ножи мятежа. Но сын эмира Нух раскрыл заговор и подавил его.
Затем, не теряя времени, он круто взялся за самих карматов. Забренчал цепями его отец, эмир Наср, препровождаемый стражей в темницу. Дергаясь, повис под перекладиной на Регистане Нахшаби, проповедник карматского учения. В стране началось избиение его последователей и разграбление их имущества. Эмиру пришлось отречься от власти в пользу сына. Тогда-то и пострадал Рудаки…
Какой-то незнакомый переулок. Омар здесь не бывал. Занесло. Этак, не глядя, можно зайти бог весть куда. Э, ладно! Дальше Нишапура не уйдешь.
«Библейского Адама изгнали из рая небесного за то, что он «вкусил от древа знания». Не за то ли же самое изгнали «Адама поэтов» из рая земной прекрасной жизни с ее яркими красками?»
Омар, оглядевшись, свернул на другую улицу. Хорошо, что его никто здесь не знает. Никто не мешает думать.
А то бы сто раз остановили. «Ну, как?» – «Ничего». – «Пишешь?» – «Не без того». – «Написал бы книгу обо мне». – «О тебе? Ты даже сатиры не заслуживаешь. Ведь чтобы попасть в сатиру, надо что-то сделать, не так ли? Эпитафию – куда ни шло, могу написать». – «Но я еще живой!» – «Это тебе кажется».
Эх, как хочется всякому, чтобы имя его прогремело… «Понимал ли Нух, сын эмира Насра, какое святотатство он совершает, поднимая руку на Рудаки? Видимо, нет, – по недостатку ума.
А может быть, и понимал! Ведь сжег Герострат храм Артемиды в Эфесе, чтобы войти в историю. И вошел. Нух тоже. Тот тем, что сжег великий храм, этот тем, что выжег глаза великому поэту.
Да еще тем, что, будучи правителем бездарным и жестоким, дотла разорил и развалил свое государство…»
Читать дальше

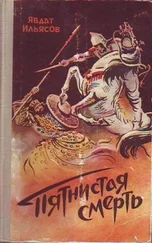




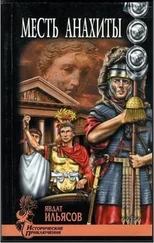
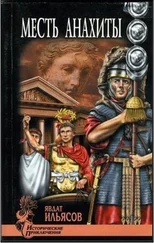



![Явдат Ильясов - Исторические романы и повести [Книги 1-9]](/books/415171/yavdat-ilyasov-istoricheskie-romany-i-povesti-knigi-1-9-thumb.webp)