Осенью на пороге появилась Ленка и сообщила, что закрыла газету, которую возглавляла больше десяти лет. Ее просили этого не делать, приглашали в разные передачи и даже в педагогические сообщества. Она приходила и говорила одно и то же, что именно сейчас делать то, что она делала раньше – невозможно. Она не знает, как разговаривать с читателями, не касаясь всего, что произошло и происходит. «Мы не можем молчать… Но и не имеем права менять суть газеты, превращать ее в действующую сторону конфронтации, которая сегодня незримо раскалывает семьи и дружбы, заставляет каждого на свой страх и риск решать, кто он и с кем…» После этого она собралась и уехала из страны.
Уезжали, бежали многие. Петр теперь жил где-то в Латвии и старался здесь не показываться. Ленка уехала в Канаду. Многие знакомые и друзья брали израильские паспорта. Искали возможности не быть здесь. Наше прежнее время стремительно уходило, а жить в новом не было сил.
Знакомые из Донецкого университета писали, что город наполняется какими-то чужими людьми; они заполняют детские площадки, дворы, спят в подъездах. Это было в начале мая… А потом уже были захвачены государственные здания. Я вглядывалась в хронику – тяжелые, опухшие мужики радостно стреляли из автоматов вверх, размахивая похожим на пиратское знаменем. А за перевернутыми столами, за разорванными флагами Украины притаился человек, которого я, несомненно, знала. С есенинской челкой, голубыми холодными глазами, крупным носом. Он был абсолютно счастлив. Он осматривал этих странных людей, которые стреляли, громили мебель, вели кого-то со связанными руками, и улыбка играла на его лице. Он был с ними и одновременно отдельно. Они не видели его. Я даже заметила, что кто-то прошел прямо сквозь него, потому что он был прозрачен.
– Черт, да это же мой дед! – вырвалось у меня. – Ну, конечно же, где же ему еще быть? Это же его рук дело.
Кправнучке мой отец убежал прямо с больничной койки. Аню привезли на консультацию в Москву. Ее показывали всевозможным врачам, целителям. Нельзя было предугадать, как она будет развиваться, будет видеть или нет.
Отец долго и мучительно ехал к ней с другого конца Москвы. Он недавно вышел из больницы и был уже очень слабый. На лице у него проступили глаза, которые уже смотрели куда-то в иной мир. Он был совсем другой. Ушли его привычные шуточки, подтрунивание, суетливость, ненужные разговоры. Теперь он знал, что хочет одного – обнять и прижать к себе это маленькое существо. Отец не жалел ее, не плакал. Он просто держал девочку на своих слабых руках и вглядывался в ее лицо.
Этот рывок стал последним поступком в его жизни.
На его похороны в 2010 году прибыли солдаты с оркестром. Выставили почетный караул. Раздавался звон литавр, выстрелы – все, что он не раз со смехом мне описывал. Он любил рассказать, как будет идти ритуал прощания, как загудит оркестр, ударят в тарелки, как пойдет печатать шаг почетный караул.
– Меня будут хоронить с выстрелами, за государственный счет! – радостно говорил он. – Хоть какая-то тебе польза от меня будет.
Почему-то от этих выстрелов мне стало совсем худо.
– Зачем это? Бедный ты, бедный, – вздрагивая от нескончаемой канонады, думала я.
Я тряслась в автобусе, который долго пробивался сквозь пробки из Хованского крематория, и ясно видела, как отец с мамой словно дети из «Синей птицы» – Титиль и Митиль – бредут куда-то, взявшись за руки. Жизнь одного была прочно связана с жизнью другого. Каждый из них, сделав ошибочный, ложный шаг, укоротил век другого. Теперь они знали о себе все и поэтому не разлучались. Для меня они навеки остались детьми – испуганными, наивными, несчастными. Смерть соединила их навсегда.
На прощании его последняя жена с волосами-пружинками взвыла на весь зал крематория, а потом безжизненно повалилась на руки сопровождавших ее подруг. Но уже через десять минут, встряхнувшись, рассаживала всех по автобусам, резко покрикивая на разбредающихся родственников.
Вначале она была тихой, и мы горячо благодарили ее за то, что отец обрел с ней покой. Однако, чем более он становился зависим от нее, тем сильнее она кричала на него и на нас.
– Чтой-то они у тебя коммунистов ругают! – показывала она на нас пальцем. – При них настоящее счастье было. А пьяница-Ельцин весь СССР пропил.
Отцу было неловко, но в то же время было видно, как он боится эту третью, странно свалившуюся на него жену. Вдруг она выгонит его на улицу. И что тогда? Умирать под забором? И чем слабее он становился, тем громче становился ее голос. Она уже могла нам грозить…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
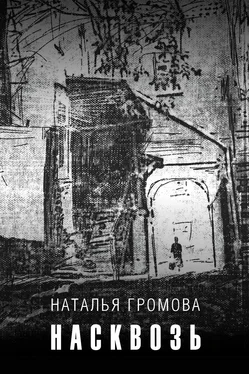
![Наталья Громова - Пилигрим [сборник]](/books/27942/natalya-gromova-piligrim-sbornik-thumb.webp)






