Европа ужасалась, но Европа и глумилась над Францией.
Разве так уж нужно для процветания свободы свергать древние памятники, зачем осквернять народные святыни, не глупо ли старинным городам и улицам присваивать новые названия, всем чуждые? Якобинцы запретили отмечать воскресные дни и праздники, взамен которым придумали позорные капища, почти языческие, где роли «богинь разума и скромности» играли уличные проститутки. Наконец, глупцам казалось, что приказом свыше можно одним махом ликвидировать старую веру в бога, чтобы народ обратился в новую веру.
Робеспьер, тщеславный и недалекий человек, издал декрет, гласивший, что религия вообще отменяется, а вместо нее учреждается новая «религия разума». При этом он сам объявил себя «Высшим Существом», и в уличной процессии предстал перед народом, как божество, охотно воспринимая похвалы публики, и даже не догадываясь, что все это было уродливым фарсом, разыгранным от нехватки ума и полной деградации скромности…
Примерно такой (лишь примерно!) была голодная, запуганная, окровавленная и все-таки побеждающая Франция, когда начиналось быстрое выдвижение Наполеона Бонапарта. О чем он думал тогда, о чем смел мечтать? Читатель, наверное, будет удивлен: Бонапарт грезил о… Египте (уже тогда!), говоря близким:
— Европа — это затхлая крысиная нора, и только страны Востока еще таят в себе неразгаданные пространства, а шестьсот миллионов ждут смелых завоевателей.
Кстати, он не валялся бесхозным — приходи и бери!
Египет был давней (с 1517 года) провинцией Османов, он платил дань султанам Турции, которые слали в Каир своих наместников-пашей, а чтобы паши не вздумали сами сделаться султанами Египта, Порта делила их власть с мамелюками — это были преторианцы, очень схожие с янычарским сбродом Константинополя; и как янычары не раз душили своих султанов на берегах Босфора, так и мамелюки не раз резали и травили своих пашей на берегах волшебного Нила…
Селим III правил империей уже пять лет, желая спасти ее от гибели, осведомленный в том, что дипломаты Европы говорят о Турции не иначе как о «больном человеке», после смерти которого можно смело приступать к дележу гигантского наследства.
Селим III хлопнул в ладоши:
— Исхак-бей… пусть войдет!
20 лет назад Исхак не был еще беем, и, пойманный на мелком воровстве, бежал во Францию, где нахватался верхушек знаний из жизни Европы, чем и приобрел дружбу Селима, когда вернулся домой, а Селим еще не был султаном. Потом Селим, уже ставший султаном, снова послал Исхака в Париж — с письмом к королю, и с ответным письмом Людовика XVI он вернулся на корабле, на котором плыл в Турцию граф Шуазель-Гуфье… Исхак вошел.
— Сядь, — разрешил султан. — Кого мне бояться?
— Только не революции во Франции, — торопливо заверил его Исхак-бей, — она чувствительна для наших греков или сербов, но только не для нас. Французы решили измерить глубину колодца, для чего и бросили в него своего ребенка.
— Оставь! — сказал Селим. — Разве бесплодной женщине дано знать о муках деторождения? Тебе ли, нищему с деревенского базара, судить о столичных ценах на розовое масло?
— Прости, о великий султан, — повинился Исхак-бей. — Ты меня мудро спросил — я очень глупо тебе ответил…
— Конечно, — продолжал Селим, думая о своем, — сирота вынужден сам обрезать свою пуповину. Так и французы… Но ты боишься ответить мне — кого мне бояться?
Сказать Султану, что он способен кого-то бояться, на это смелости у Исхака не хватало. Селим, не вставая с дивана, ударил его длинным чубуком, сковырнув с его головы тюрбан:
— Трус! Мне могут угрожать только ени-чери…
«Ени-чери» — так в турецком произношении звучало грозное слово «янычары». Турецкий дом был слишком громадным для турок и слишком тесен для тех, кто насильно был помещен под турецкою крышей: арабы, славяне, румыны жаждали строить свой дом. Реформы были необходимы — следовало сначала укрепить централизацию власти, чтобы кровообращением великой страны управляло одно сердце — сердце султана. Понятно, что без реформ Турция обречена, и Селим III уже давно провозгласил «низам-и-джедид», что означало «новый порядок». Однако провозгласить начало реформации легко, а как подступиться к преобразованиям в стране, если в этой стране никто перестраиваться не желал, ибо какая же лягушка скажет, что ей надоело ее любимое болото?..
— Уходи, — сказал султан Исхаку. — Не терплю трусливых.
Но, выслав трусливого, Селим остался наедине со своим страхом, который давно угнетал его. Что бы ни замышлял султан для блага Турции, его новшества всегда грозили возбуждением в янычарских казармах, а на Эйтмайдане, где раздавали мясо, янычары уже не раз переворачивали котлы — верный признак близкого мятежа… Селим сказал султанше Эсмэ:
Читать дальше






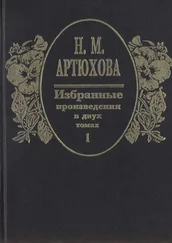

![Дин Кунц - Избранные произведения. III том [Компиляция]](/books/389340/din-kunc-izbrannye-proizvedeniya-iii-tom-kompilyac-thumb.webp)



![Луи Буссенар - Избранные произведения. III том [компиляция]](/books/389918/lui-bussenar-izbrannye-proizvedeniya-iii-tom-komp-thumb.webp)