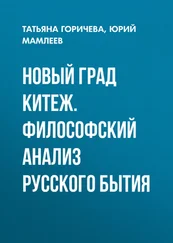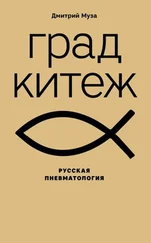После смерти отца Федька Инотарьев женился. Но отцовский клад по-прежнему не давал покоя. Он извелся в поисках: уходил из дома и по нескольку дней не возвращался. Говорили: «Федька молится у пустынника Алексия в лесу». Но как-то люди пришли к отшельнику, а он лежит в келье преставившимся…
Через год молодой Инотарьев подрядил народ на порубку леса. После покрова на берегу Керженца чавкали, поблескивая, топоры, а весной инотарьевские плоты плыли к Макарию. Федьку уже стали звать Фед Федорычем. И год от года он все больше гнал к Волге леса, а на Керженце смелее шла молва о насильственной смерти старца Алексия. Уснащая случай с пустынником, бурлаки один другому передавали: старец-то при жизни ходил ночевать к Инотарьеву. Разговаривая с Федькой, однажды спросил: «А каким тебя молитвам учат?» — «Боже, милостивый буди мне грешному, создал ты меня, господи, без числа согрешить на земле», — отвечал будто Федька. «Нет, парень, не делу тебя учат. Будешь так помнить божественное слово — богатство пройдет мимо тебя. А перестанешь молиться — попадешь в ад. Так ты лучше ступай с Малых лет в келью». — «Дороги не знаю». — «А вот я пойду от вас, ты и ступай за мной».
Подошло время старику идти. Позвал он Федьку. Отец покойный остановил сына, а Алексия упрекнул; «Ты хотя и хорошему парня учишь, но я сына не отпущу». Федька будто упал отцу в ноги, начал просить: «Дозволь, тятенька, только узнать ко спасению дорогу!» Ушел тогда Федька, но скоро вернулся. «Не слушай-ка ты старика, — встретил его отец, — а что касается богатства его — смотри не проморгай».
Вскоре после этого случая с сыном сам Инотарьев умер. А когда Федору исполнилось двадцать лет, он уже был женат, к нему как-то еще раз зашел пустынник Алексий и ночевал. Утром, уходя, задержался и сказал: «Напрасно ты, Федор, оженился… Ушел бы в пустыню, святым стал». И Федька — то ли чтоб не грешить в миру, то ли задуманное свершить решился — оставил молодую жену и ушел из дома к Алексию.
Пустынник дал ему топор, послал нарубить дров. Принимая топор, Федька вздрогнул. Со всей силой сжал топорище, и воспрянула у него мысль о спрятанных в келье богатствах. «Сам дает топор», — подумал он. Трудно Федьке было сдвинуться с места, ноги не шли. «Лес мне показался золотым… Рубить пожалел», — сказал он, вернувшись. Пустынник проводил его во второй раз, а когда Федька вернулся, старец спросил: «Видел ли ты еще раз золотые деревья?» — «Нет!» — «Вот в этом-то и заблуждение твое. Приди ты в пустыню юным — спас бы свою душу, но когда ты познал земной блуд, ждешь чадо, — теперь тебе трудно спастись. Оставаясь в лесу, ты изведешь себя, думая о молодой жене. Так лучше вернись к ней, все равно двери царства небесного для тебя закрыты». И Федор пошел домой… По дороге будто его встретил бес, спрашивает: «Куда ходил?» — «Душу спасать». — «На земле нет такого места, — уверил его бес, — а есть богатство и бедность. Хочешь, я укажу тебе дорогу к богатству?» Феденька согласился и пошел за бесом. И он его снова привел к пустыннику. «Я вернулся неволей», — сказал Федька. «Молиться?» — спросил пустынник. «Нет!..» И вплотную подошел к старцу…
Природа, как говорят, не создала человека тираном. Но жадность и хитро придуманные внушения, невежество и страсти, соединившись вместе, сделали Инотарьева тираном.
Сам Инотарьев о смерти Алексия рассказывал иначе: «Когда я подошел к келье — стал задыхаться от запаха ладана. Приблизившись, увидел преставившегося. В руках он зажал записку (кстати сказать, Федор Федорович передал ее Керженскому монастырю), в записке говорилось о том, как старец тридцать лет жил в пустыне. „Душу мою, — будто бы писал Алексий, — ангелы унесли на небо“. А тело он просил предать земле в скиту у Керженца».
Люди тишком иначе рассказывали про Инотарьева: будто он пришел к отшельнику Алексию и, не допытавшись о скрытых богатствах, пригрозил в огне уничтожить его и келью.
Разбогатевший Инотарьев, как не раз случалось, пускался в разгулы. Одной весной его видел Дашков. Сплавив лес, Инотарьев занялся озорством. Та весна, как и все весны на Керженце, выдалась пахучей. На деревьях рано набухли сочные почки. Начинали тянуть вальдшнепы. На Макарьевской пристани готовили к сплаву инотарьевскую «астраханку». В тот год к Лыскову впервые готовился сплавить лес и Тимофей Дашков. На его плотах дымились жалкие харчёвы. Перед началом первой путины Дашков отслужил молебен. Провожая в первую поплавку, к его плотам подходили мужики, ждали — не даст ли Тимофей Никифорович на водку, напрашивались помочь. Глаз не смыкая, он сам со всем справился. После молебна с его харчевы слышалась песня:
Читать дальше
![Василий Боровик У града Китежа [Хроника села Заречицы] обложка книги](/books/387805/vasilij-borovik-u-grada-kitezha-hronika-sela-zarech-cover.webp)
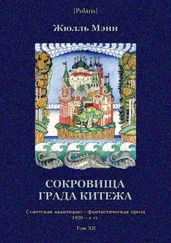
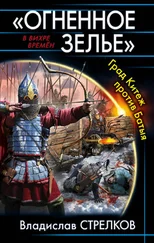
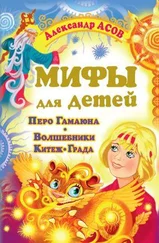


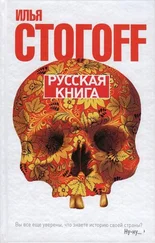
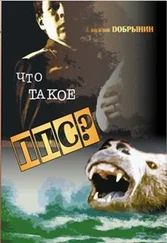

![Васил Попов - Корни [Хроника одного села]](/books/409805/vasil-popov-korni-hronika-odnogo-sela-thumb.webp)