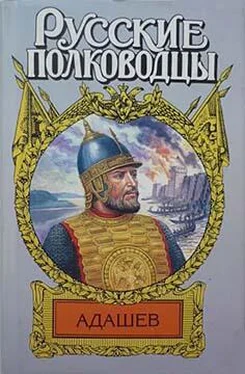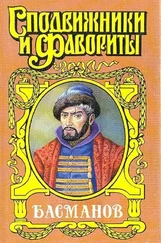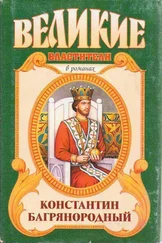— Истинно Содом и Гоморра, Данилушка. За грехи наши идёт сожжение Москвы! — кричал на ухо Даниилу Ивашка. — Да то ли ещё будет!
— Многоречив ты больно, мой друг, — заметил Адашев строго, поворачивая с Арбата в Калошин переулок.
Тут было тихо, но у ворот, в калитках, во дворах — всюду были люди, стояли всё больше кучками. На Сивцевом Вражке та же картина. В доме Адашевых тоже никто не спал. Даже дети жались к взрослым. Многие дворовые челядинцы сидели на крышах: кто на палатах, кто на конюшне или амбарах. Даниила встретили отец и мать.
— Где это ты пропадал, сынок? — спросила первой Ульяна.
— Так на службе был в Кремле, матушка. А вы-то как здесь? В страхе, поди, пребываете?
— Куда от него уйдёшь! — ответил Фёдор.
Подошёл батюшка Питирим, спросил:
— Видел ли с колокольни Москву-то? Как она, сердешная? Ведь не иначе, как ордынцы подожгли. Они это умеют.
— Ежели бы знать, кто поджёг стольный град! А пошло всё с торга в Китай-городе.
Даниил заметил, что Катерина стоит, прижавшись к матери. Хотел подойти к ней, но что-то сдержало. Да и голод дал себя знать.
— Матушка, накорми нас. — И он представил Пономаря: — Это мой побратим. Он ноне спас меня от разбоя на торге. Иваном зовут.
— Как это тебя угораздило попасть в переделку? — спросил отец.
— А в Китай-городе, перед тем как загореться торговым рядам, побоище кто-то учинил. Думал властью разнимать, а тут все на меня…
— Не позавидуешь, — усмехнулся Фёдор.
— Так Ванюша с оглоблей прибежал и всех разметал, как Алёша Попович. Диво смотреть было.
— Низкий поклон тебе от родителей и спасибо. Как отблагодарить тебя? — обратился Фёдор к Ивашке.
— Кашей накормите, — с улыбкой ответил Пономарь.
И всем стало весело.
— Идёмте, сынки, идёмте, — пропела Ульяна и увела Пономаря.
Даниил остался возле отца и священника.
— Батюшка, Ванюша не только спас меня, но и поведал такое, о чём надо в Разбойном приказе подумать.
— Говори, Данила. При такой беде всякому слову надо внимать.
— Увидел он на торге карету, а рядом с нею человека в богатом кармазинном кафтане и в куньей шапке. Так тот кому-то в карету сказал такие слова: «Вот ноне и быть пожару!» Вскоре же господин и карета пропали, а там и запылали торговые ряды.
— Вот оно откуда, лихо-то! — покачал головой Фёдор. — А лицом-то какой из себя тот человек?
— Так в лицо-то не видел его Ванюша, со спины токмо. Кони же буланые и карета под чёрным верхом. Вот и всё, что ему ведомо.
— Сыск надо учинить, сыск! — твердо произнёс Фёдор. — Разбойный приказ на ноги нужно поднять. Нынче же утром, Ладно, сынок, иди в поварню. Да сосни малость. Глаза у тебя провалились от усталости.
Фёдор остался с Питиримом новость обсуждать, а Даниил подошёл к Авдотье, окружённой детьми. Ему хотелось хоть взором поласкать Катюшу.
— Здравствуй, матушка Авдотья. Страшно, поди, вам в такой Москве?
— Страшно, родимый. Да всё в руках Божьих.
— Матушка, я слышала, что Данилушка голоден, так позволь мне проводить его в поварню и накормить, — вмешалась Катя.
— Идите уж, — махнула рукой Авдотья.
И Даниил с Катей поспешили в палаты. В сенях она прижалась к нему.
— Мне страшно, Данилушка. А ну как ветер подует в нашу сторону! Я ведь видела, как татары селения поджигают, обязательно под ветер.
— И мне страшно, славная. Приехали к нам гостевать, а тут беда такая.
В груди у Даниила родилась горячая нежность к Кате, и он сам прижал её к себе ещё сильнее и поцеловал. Она ответила ему, но бегло, тут же опомнилась, прошептала:
— Грешно ведь, Данилушка.
— Грешно, Катюшенька. Да что делать, как залить огонь жажды…
Утро следующего дня не принесло облегчения Москве. Наоборот, всё шло к худшему. Заяузье уже всё утонуло в огне. Многие его улицы к утру выгорели полностью и перестали существовать. За Яузой, против Серебрянической набережной, там, где была улица Таганная, виднелось лишь пепелище. То же постигло и Швивую Горку, а за нею и Гончарную улицу. Даниил и Иван чуть свет покинули палаты в Сивцевом Вражке и по некоему наитию отправились на Яузу, вышли на Устинскую набережную и теперь смотрели, как догорают дома на Большом и Малом Ватиных переулках. Но они увидели и другое: огонь через реку Яузу сам по себе не мог достигнуть Воронцова поля, улицы Солянки и Большого Николоворобьинского переулка — слишком чисто было перед ними до Яузы и огню не за что было зацепиться.
Летописи Москвы засвидетельствовали, что к 20 апреля за Яузой обратились в пепел все улицы и переулки, где жили гончары и кожевенники. Пожар сожрал всё, чего мог достичь, и прекратился лишь после того, как оставил во всём Заяузье пепелище. Потом два месяца понадобилось москвитянам, чтобы расчистить погорелье для новостройки. А по лесам Подмосковья уже стучали топоры мастеров плотничьего дела, возводивших новые срубы.
Читать дальше