Вне дома неуклюжее полнокровие Теда претворялось в силу более стройную: локомотив покинул станцию, он уже не пыхтит, не давится паром, а летит и жадно глотает длинные гладкие рельсы. Отец любил показывать ему депо, брал в кабину, даже катал иногда. Он дотошно проверял его домашнюю работу, порой выстреливал в него длинной арифметической задачей или цепочкой слов: ну-ка, как пишется? Обещал альбом для марок и поездку к морю, если Дэниел сдаст экзамены в среднюю школу [43].
Дэниел сдал, хоть и не блестяще. И альбом хранил до сих пор. А вот поездки к морю не было. Неделю спустя Теда сбила на уклоне оторвавшаяся череда вагонеток с сырой рудой. Потом еще неделю Тед, огромный и сломанный, лежал в больнице. Потом он умер. Дэниел его так и не видел. Сперва сказали: проведаешь, когда придет в сознание. Потом – всё, отца нет. Дэниел был тогда зол на него – за смерть неопрятную и словно исподтишка, за то, что впервые отец что-то пообещал и не сделал. Теперь-то он видел, как это было нелепо. На похороны его тоже не взяли, оставили «играть» на улице с каким-то мальчиком. И мать никогда не говорила с ним о случившемся.
Позже он на вопросы отвечал, что смерть отца не помнит. Это была полуправда. Он замыкал свое тяжелое лицо, держался «как все» и в итоге выжил. Порой, когда сон уже брал свое или Дэниел замирал ненадолго в кресле, что-то включалось, и он снова слышал тот первый телефонный звонок: беда. Он был словно заперт в одном мгновении, время могло лишь возвращать его в одну-единственную точку. Дэниел чувствовал: от него требуется неким неведомым путем узнать, как все было, – авария, смерть, прочее. Узнать он не может, и потому вечно будет даваться ему эта мучительная, ни к чему не ведущая попытка. Об этом он ни с кем не говорил.
А в альбоме пустые страницы были покрыты рядами гнездышек, в полупрозрачных нераспечатанных конвертиках ждали зажимы с резиной на лапках. Дэниел альбом не выбросил, но больше на него не взглянул.
После беды Дэниел ждал, что они с матерью станут ближе, рисовал себя в трогательной роли маленького хозяина дома, сироты, ждущего утешения и утешение дарящего. Но мать была теперь постоянно чем-то недовольна и все жаловалась через забор соседке на убогую пенсию, на мизерную экономию, на ломоту в костях. Дэниел слышал, как его называли обузой. Раньше миссис Ортон была миниатюрная, хрупкая, остро-точеная. Теперь ее затянуло жирком: плечи, бока, бедра, щеки. Среди всего этого нос, подбородок, тонкие пальцы и небольшие глаза слабо прочерчивали прежний тонкий абрис. Единственным глубоким наслаждением в ее жизни был флирт, порой расцвета – короткая пора перед замужеством, когда она кружила головы, когда все было гадательно, когда у нее была власть. С Тедом она присмирела, обставилась утешительными мелочами: какими-то кексиками, скатерками, вышитыми салфетками для предохранения кресельных спинок, блестящими ложками, латунными колокольчиками. Все это она перекладывала, переставляла, поправляла, полировала, слушая его речи, скромно отводя глаза. Когда она овдовела, многие вещицы куда-то пропали, и, хотя занавески оставались безупречны, Дэниел привычно и равнодушно думал, что дом стал грязный, запущенный. Теперь вместо флирта миссис Ортон предалась сплетням: как раньше с подружками она хихикала над незадачливыми ухажерами и соперницами, так теперь деятельно вплетала нити в бесконечную сеть предположений, осуждений, соглядатайств за жизнью соседей. Она раз навсегда сменила туфли на шлепанцы и кормила сына консервами из жестянок.
Дэниел был одинок – настолько, что даже думать об этом не решался. В школе сделался тих и неприметен. Он корпел над учебниками, но всё вслепую – не видел глубинной, рациональной системы математики или языка. И поскольку он худо-бедно сдавал все, что положено, никто не интересовался: понимает ли он, что делает? Но Дэниел и не надеялся понимать. Успевай он чуть лучше, кто-то из учителей попытался бы, может, его расшевелить. Чуть хуже – и на него, вероятно, оглянулись бы, занялись им. А так – он жил как есть. Он худо-бедно успевал достаточно, чтобы его не замечали.
Пятнадцатилетний, плотно обвитый удавьими кольцами жира, он в числе сводной группки учеников был направлен на Шеффилдскую неделю знаний. То был фестиваль нескончаемых речей и экспозиций: каменные напластования и паровая стерилизация молочных бутылок, плавление стали и запись о замке Вальтеофа [44] Граф Вальтеоф (1045–1076) – крупный представитель англосаксонской знати, единственный сохранивший свое положение во время нормандского завоевания Англии в 1066 г. Позже то примыкал к Вильгельму Завоевателю (ок. 1027–1087), в награду получая власть и земли, то восставал против него. Казнен после неудачного восстания. Жизнь Вальтеофа во многом была связана с Йоркширом.
в «Книге Страшного суда», внутренние процессы ПТФК [45] Промышленно-торговая финансовая корпорация – финансовое учреждение, основанное в 1945 г. для работы с малыми и средними предприятиями.
и Мистерия меховщиков [46] Имеется в виду мистерия, входившая в средневековый Йоркский цикл неизвестного автора, охватывавший события от Сотворения мира до Страшного суда. Цикл состоял из сорока восьми мистерий и игрался в городе Йорк в праздник Тела Господня. Традиционно каждую из мистерий разыгрывала одна из городских гильдий. Меховщики представляли «Вход Господень в Иерусалим». В ходе Реформации праздник Тела Христова был в 1548 г. отменен. Цикл продолжали играть, вырезав сцены, прославляющие Деву Марию, до 1569 г., когда он был запрещен окончательно.
в ритмизованной постановке «Лицедеек Изиды» [47].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Антония Байетт Дева в саду [litres] обложка книги](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-cover.webp)

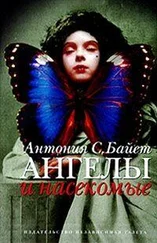
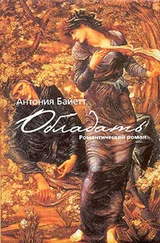

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
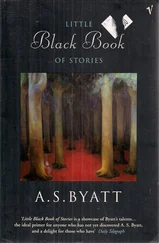
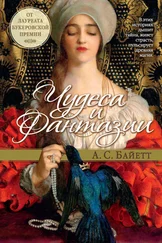

![Антония Байетт - Обладать [litres]](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-thumb.webp)
