Потом он сказал:
– Тебе больно?
– Нет! Нет! Нет!
Еще потом все куда-то пропало, а когда он открыл глаза, она сидела нагая и смотрела на него. У обоих по лицу тек пот и слезы, волосы намокли. Он слишком устал, чтобы улыбнуться, ее лицо застыло в маску – такую же, наверно, как у него. Дэниел прикоснулся к ее горячей груди, и Стефани положила свою руку на его. Позже он снова проснулся, разбудил ее и любил долго, тихо. Он не знал, кто она, но так и нужно было: они были вместе, вот и все – безымянные, в темноте. Он не знал, не смог бы называть то, что они чувствовали, но он – чувствовал. Наконец-то смолк весь этот посторонний шум.
У Стефани мысль сложилась в слова: впервые в жизни все у нее сошлось в одной точке – тело, разум и то, что видит сны и создает образы. Потом пришли образы. Она очень смутно представляла себе свои темные внутренние пространства, внутреннюю плоть, черно-красную, красно-черную, податливую, гибкую. Внутренняя Стефани казалась больше внешней: не было ни ясной перспективы, ни очевидных границ. Дэниел очерчивал и определял ее, двигаясь в переменчивых покоях и слепых галереях, но объять не мог. Темный мир проступал все явственней: рождался в черно-красном сапфировый свет, подымался, блуждал в ветвящихся пещерах. Синяя стеклянистая вода бежала в резных берегах базальтовых каналов и изливалась в цветущие поля, где прозрачно-зеленые стебли, воздушные листья, яркие цветы двигались и плясали, волнистыми линиями бежали и сливались с развеваемой ветром травой на утесе над узким и светлым берегом, за которым сияло светлое море.
У них собственный свет – сказал Вергилий о своем подземном царстве. И этот ее свет, хоть и яркий, ярче летнего полдня, был свет во тьме, рожденный тьмой, теплой тьмой. Он был явлен не внутреннему оку памяти, узнающему и воссоздающему, а зрению слепого мальчика. А потом свет наполнил все, просиял из цветочного стебля и бегущей воды, из пляшущих головок цветов и злаков, из бессолнечного моря, до краев полного собственным свечением, из взвихренных песков, за которыми – за краем ока – темнеет ночное небо. Стефани была этим миром и шла в нем, то медленно, то быстро, меж линией листьев, и линией песка, и линией прозрачной воды, линией вечно сияющей, вечно убывающей и обновленной.

32. Saturnalia [280] Сатурналии – декабрьские празднества в Древнем Риме, посвященные земледельческому богу Сатурну и сопровождавшиеся всевозможными излишествами. Считалось, что на время сатурналий возвращается радостная эра Сатурна.
Сады Лонг-Ройстона наполнились голосами и движеньем, позолоченными паланкинами и прожекторами со змеями проводов. В особняке господские спальни и чердачные комнатушки, где некогда невидимо спали армии слуг, были теперь заселены актерами, техниками, бутафорами и людьми, неизвестно чем занятыми. Автобусы привозили оркестрантов, танцоров, любопытных (а со временем и публику) из Калверли, Йорка, Скарборо. Приезжали отовсюду, чуть не из Лондона. Эти орды были призваны Кроу, который отмечал их перемещения во времени и пространстве на картах и календарях, развешанных в Большом зале. Кроу был волшебник с полным карманом блестящих цветных кнопок. Он составлял расписания репетиций чернилами изумрудными, ультрамариновыми, киноварными. Он объяснял гостям тонкости своих схем, вооружившись длиннейшей старинной указкой, позаимствованной Александром из школы. Он открыл пришлецам свои владения, поясняя: вот сад удовольствий, зимний сад, сад пряных трав, водный сад. Вот каменный лабиринт, называемый римским, но на самом деле намного более древний. Недавно Кроу велел осмотреть его с вертолета и подновить по мере надобности песком и самшитовыми бордюрами.
Корзины бумажных роз, целые ящики алебард и рапир прибывали в фургонах и до поры хранились в конюшнях и заброшенных кладовых. Завезли заранее пиво в количествах изрядных и шампанское – в несколько меньших. Странные звуки и дуновения реяли над потайными полянками и рощицами. В розарии контратенор неустанно заверял кого-то, что здесь нет ни змей, ни кровожадных медведей. В кухонном садике чей-то испанский акцент ломался о шипящие звуки анафемы. На лужайках за низкими изгородями мчались в хороводах взмокшие нимфы и пастухи.
Кроу сообщил Марине, почивавшей теперь под лунным балдахином нисходящей Селены, что дело принимает размах пышных проездов самой Королевы-девственницы. В закатном золоте, заливавшем террасу, мисс Йео царственно вперилась в него поверх шампанского и проговорила, что на меньшее он, вероятно, и не рассчитывал. Кроу не стал отрицать, что обожает всевозможные действа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Антония Байетт Дева в саду [litres] обложка книги](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-cover.webp)


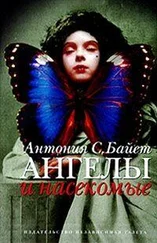
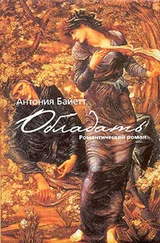

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
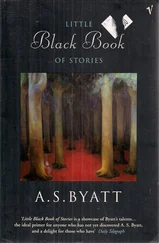
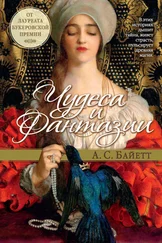

![Антония Байетт - Обладать [litres]](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-thumb.webp)
