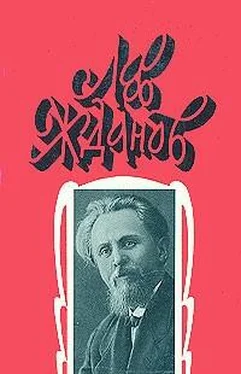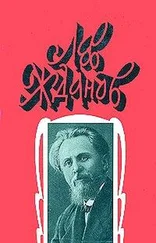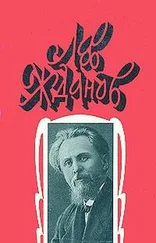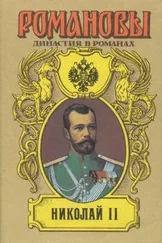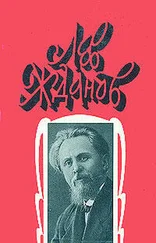Только хозяин волшебного пира в первый раз за весь вечер словно расцвел, помолодел, почуяв, какую глубокую, мучительную рану нанес своему недругу.
Пир шел своим чередом.
Около полуночи уехала Екатерина с Зубовым и всей своей семьей.
А веселый, сверкающий пир, превратившийся теперь в полудикую оргию благодаря гостям из парка, проникшим в залы после отъезда царских особ, длился до самого утра.
А хозяин этой роскоши и великолепия с непокрытой головой, без маски долго слонялся между своими уже опьянелыми гостями, снова потемнелый, задумчивый. Все бормотал что-то невнятно, грыз ногти по своей вечной привычке и порой подходил к буфету, выпивал что-нибудь, закусывал чем попало и снова пускался бродить из покоев в парк и обратно.
Никто и не заметил, как он ушел к себе на покой…
* * *
На другое утро, дрожащий, взволнованный, терзаемый надеждой и страхом, явился Голынский к своему покровителю.
— А, покупатель пришел! — с явной иронией встретил его князь. — Деньги принес? Подавай. Деньги нужны… Теперь в особенности… Видел: абшид… Надо на сухой корм переходить!.. Ха-ха-ха!..
— Я только… ваша светлость… Потому только… чтобы только…
— Ишь как растолковался… Вижу зачем… Делать нечего. Умел фортуну за… спину поймать, получай… Только уж не совсем даром. Поедешь с Поповым, он на твое имя купчую сделает. В кредитном банке тебе под имение тысяч триста выдадут. Эти деньги мои… А остальное твое. Разживайся… Только бы клопу этому розовому не досталось!..
В порыве кинулся юноша руки целовать благодетелю…
* * *
Прошло еще долгих, томительных три месяца.
После новых столкновений и сцен, после самых решительных настояний государыни Потемкин собрался в обратную дорогу.
— Прощай, матушка, благодетельница моя! — упав в ноги императрице, с рыданиями мог только выговорить князь, когда они остались наедине в минуту прощанья.
— Что за странные думы у тебя, Гри-Гри? Вернешься еще… Вот мир подписан будет, тогда мы и отдохнем с тобой на покое… Авось что и по-твоему выйдет, — слукавила по женской слабости она, желая ободрить старого друга, который имел вид тяжко больного человека.
— Да? Авось, быть может… «Живу — надеюсь», — говорят древние латиняне… Так и я! А по правде сказать, ни на что не надеюсь, кроме могилы!.. Помяни тогда меня, грешного… Как я любил тебя… Как жизнь всю… Ну да что теперь… Пора… Уж сели, поди, все… Прощай, матушка… На прощанье, в последний раз удостой… хоть руку облобызать…
И он горячими, воспаленными губами до боли крепко впился в красивую, выхоленную руку Екатерины.
— Нет, нет, что же это… Дай я тебя… по-старому, как верного, давнего друга… — И Екатерина тепло поцеловала своего многолетнего помощника и защитника, с которым теперь пришлось разлучиться… кто знает, может быть, и вправду навсегда…
Недаром так болит сердце-вещун у государыни…
Они расстались опечаленными, с глазами, полными слез…
Но оба поняли, что разлука неизбежна…
А еще через два с половиной месяца, 5 октября 1791 года, в степи, около Ясс, на придорожной, пыльной поляне, задыхаясь от припадков астмы и сердечной своей застарелой болезни, скончался лучший, самый смелый и мощный из орлов-питомцев Екатерины Великой, светлейший князь Потемкин-Таврический, генерал-фельдмаршал, кавалер всех орденов, владелец колоссального состояния…
И сейчас же почти весь тяжкий груз этих почестей, должностей и орденов захватил и взвалил на свои небольшие, но упругие плечи Зубов, давая свободу Екатерине плакать в своем покое о друге, погибшем, вопреки всему, раньше ее, хотя она была намного старше его…
— Все теперь, как улитки, будут высовывать против меня голову, когда не стало друга моего! — сказала она Храповицкому, наперснику своему, в минуту грусти.
— Все это много ниже вас, ваше величество!
— Так!.. Но я стара! — печально произнесла Екатерина. И умолкла.
«Я уж стара!» — этими словами прославленной Семирамиды Севера, сказанными в конце 1791 года, заключается первая часть правдивой истории о Екатерине Великой и ее п о с л е д н е м фаворите Платоне Зубове, которая и заканчивается в настоящей книге.
Конечно, что она состарилась, царственная Цирцея-очаровательница, вечно влюбленная и пылающая, — это видели все, но закрывали глаза, а придворные живописцы, самые худшие льстецы в мире, рисовали портреты с постарелой властительницы, тонко прикрашивая природу… Так, портрет Шубина, писанный уже много позже, в 1794 году, то есть за два года до смерти императрицы, дает нам красивое лицо женщины лет сорока шести — сорока семи, с седыми, вернее, пудреными волосами…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу