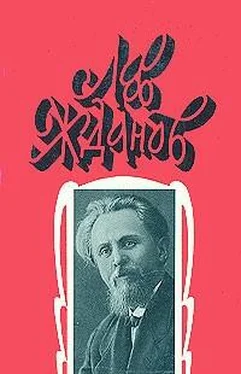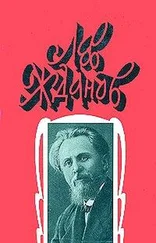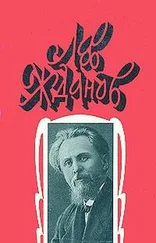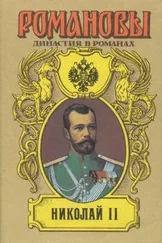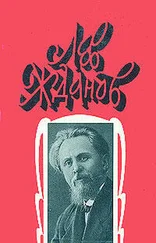— Матушки! В жисть грозы не баивалась. А тут, гляди… — заворчала, выходя, Перекусихина, распорядилась и сейчас же вернулась, оправила неугасимую лампаду перед образом, продолжая ворчать: — Что нашло? Что припало? Господи! Хоть с уголька опрыскивай, одно и есть…
— Довольно… Уж все прошло… Неожиданно так, вот и смутило меня. Я ничего неожиданного не переношу. Знаешь, старая. А грозы не боюсь. Дивно только… Чудо прямое… Стой, стой… Дай припомнить… Так и есть, — снова бледнея, опускаясь в кресло у окна от внезапной слабости, забормотала Екатерина.
— Что с тобой, матушка? Али доктура снова звать?.. — встревоженно спросила Перекусихина.
Голос Зубова, вошедшего в эту минуту, прозвучал, как эхо:
— Что с тобою, матушка-государыня? Роджерсона надо звать?..
— Ах, ты? Идите, идите, генерал… Пустое. Слабость небольшая. А эта дура уже тревогу готова поднять. Видите, гроза… Я говорю: в такую позднюю осеннюю пору… Я говорю… — Екатерина как-то странно улыбнулась, словно насилуя себя. — Говорю, что вспомнила…
— Что вспомнила, матушка? Не тревожьте меня, ваше величество! Вон на вас лица нет… Иди скажи, врача позвали бы, Марья Саввишна, прошу тебя…
— Иду, иду, батюшка Платон Александрович… А вы вот спросите ее: что вспомнила? Может, вздор какой… А себя, других тревожит… Вспомнила!
Ворча, ушла камеристка.
— Давно уж это. Но я не забыла… Сорок, почитай, лет тому назад… Как пришло время государыне Елисавете кончаться… в тот самый год… тоже гроза поздней осенью грянула… Вот-вот, такая же сильная… И деревья трепались по ветру, и стонало в парке… И дождь хлестал… А молнии… Вот-вот как эти… Помилуй, Господи… Как близко ударило… Грохот какой…
Она полузакрыла руками свои глаза.
Зубов должен был сделать усилие, чтобы преодолеть невольный страх, навеянный воспоминаниями Екатерины, сильным блеском молнии и грохотом громового раската, так некстати грянувшего в этот миг.
Но он сейчас же громко, хотя наполовину вынужденно, расхохотался:
— Ваше величество, ужли ж вы забыли опыты скромного друга вашего с электрическим спектаклем, который сейчас столь пугает вашу расстроенную душу? Не желаю покидать вашего величества. Не уйду от тебя, матушка. А то бы можно спустить мой змей золоченый. Вот бы искр принесло! Что осенью гроза, тоже понятно. Лето позднее стояло, жаркое. Осень теплая необычно. И собралось довольно зарядов в облаках наверху и в земле. Вот и чудо все. Быть может, так оно случилось и в год смерти той покойной государыни.
— Так явилось оно и в год смерти твоей государыни, — грустным, значительным тоном произнесла императрица, не отводя глаз от окна, за которым бушевали гроза и буря.
— Что вы, что вы, матушка, ваше величество! — начал было Зубов, но затих и тоже перевел глаза от нее туда, за окно.
Ему вдруг показалось при блеске яркой молнии, в грозовой полутьме, которая наполняла теперь покои, что лицо императрицы совсем как у мертвеца…
А Екатерина продолжала спокойно, значительно:
— Сколько бы ни было у матери детей, внучат, правнуков, ей самого малого, самого далекого жаль, если уходит он. Понимает, что смерть свое берет, а все жаль! Мы дети великой природы… Она рождает… и губит нас… А может, ей тоже жаль?.. И рыдает она…
* * *
Большое, многолюдное собрание у «новорожденного», у цесаревича Павла.
Двери настежь повсюду, видны ряды по-праздничному убранных покоев, заставленных цветами, деревьями в кадках, со старинной, богатой мебелью, освобожденной от чехлов, какими аккуратная по-немецки Мария Федоровна велит покрывать ее всегда.
Императрица с семьей, окруженная самыми близкими людьми, сидит в уютной гостиной.
Сегодня в доме праздник, который привыкли справлять радостно.
А все сидят теперь в черном, только белые перчатки наглыми, резкими пятнами выделяются на фоне черных материй, черных вуалей, спадающих с головы у дам… При дворе траур по королеве португальской, близкой родственнице императрицы. И белые траурные перчатки на черном фоне гладких нарядов выделяются, напоминая белый оскал редких зубов в черной пасти оголенного черепа…
— Совсем немецкие похороны, — с улыбкой оглядевшись, замечает императрица. — Там тоже принято так сидеть, в белых перчатках при черном наряде…
Все улыбаются.
Невеселая, горькая улыбка у всех. Лучше бы они плакали…
Обширный театральный зал отведен для ужина.
Как бывали веселы здесь эти ужины порой! Особенно в небольших ложах, где ради тесноты тоже накрывались отдельные столики на три-четыре куверта. Обычно молодежь забиралась своими кружками в уютные ложи…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу