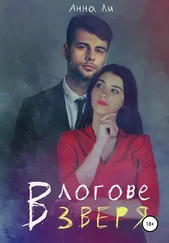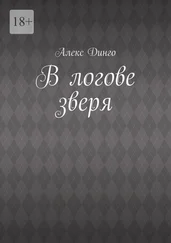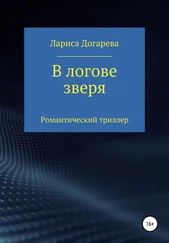Неповторима была ситуация в тот год, когда советские войска входили в обезлюдевшие города с распахнутыми настежь дверями брошенных квартир. Таких «экскурсий» по обозрению любых жилищ Европа не видела на всём протяжении своей истории. Россия тоже, как и её граждане, как одетые в военную форму, так и без неё. Сравнение слишком часто оказывалось не в пользу Советского Союза. Через некоторое время появились желающие воспользоваться случаем и перебраться на Запад навсегда. Границы имели только чисто символический вид, их никто не охранял. Нельзя сказать, что советские граждане бросились в бега массово, но всё равно удар по престижу страны состоялся очевидный. И вот появилась песня… Эдакий гибрид марша с танцем. Под неё и в самом деле можно было маршировать или плясать. Но – в противоположную от Запада сторону. «А я остаюся с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна!», – вдохновенно убеждал слушателей популярнейший в те времена певец Бунчиков. Это была одной из любимейших песен мамы и, само собой разумеется, моей.
Мама отдавала должное европейской цивилизации объективно, но немедленно и обязательно находила в ней что-нибудь такое, что понравиться ей никак не могло. Красивы и удобны были окрестные леса, по которым мы прогуливались. Мама шагала по посыпанной гравием дорожке, выложенной по краям камнями, восхищалась и говорила:
– Ну, какой же это лес? Парк, а не лес. Вот у нас в России лес так лес – настоящий. Там у нас чистая природа и красота её не тронутая… Здесь и птиц не слышно и не видно… А в России соловьи в это время поют, жаворонки в небе кувыркаются…
И запевала песню:
Между небом и землёй
Песня раздаётся.
Неисходною струёй
Громче, громче льётся.
Не видать певца полей,
Что поёт так звонко
Над подруженькой своей
Жаворонок звонкий…
– А реки?.. Что за безобразие здесь реки!? Закованы в бетон, как ландскнехты в доспехи. Мёртвые. А нашими реками залюбуешься – такие они живые и красивые. Особенно Волга. Жигулёвские горы…
И снова песня. О Волге, а потом о Стеньке Разине, об утёсе, о снаряженном стружке с Нижня Новгорода…
– Мам а мам, а почему тот добрый молодец, который призадумался, сам не прыгнет в Волгу и не утопит в ней грусть тоску свою, если уж ему так хочется? Почему он товарищей своих просит кинуть – бросить себя в Волгу-матушку? – затеребил я свою матушку в паузе между пением.
– А как ты сам думаешь, сын: почему?
– Ну, мам, я не знаю же. Потому и спрашиваю тебя. Может быть, боится сам-то… Не знаю, вобщем.
– Это проще всего сказать: не знаю. Ты многого ещё не знаешь и правильно делаешь, что вопросы задаёшь. Спрашивай побольше. Но, всё-таки, пробуй хотя бы подумать о том, чего не знаешь: вдруг и сам догадаешься. А потом можешь и спросить, чтобы проверить себя – верно ли догадался… Ну, подумал?
– Подумал, мама. Тот парень, наверное, был разбойником, как Стенька Разин, его ранили и он не мог сам броситься в реку – вот и попросил кинуть его туда.
– Что ж, Стасик, это тоже версия… Но только не правильная. Впрочем, здесь нужно просто знать, а не догадываться. Дело в том, сын, что на Руси все русские люди были православными христианами. Для них самоубийство было страшным грехом – одним из самых страшных. Жизнь, по вере христианской, дал человеку Господь Бог. Только Он и может взять её у человека. Но не сам человек вправе лишить себя её сам. Тех, кто это делал, даже не хоронили на православном кладбище возле церкви. Их закапывали где-нибудь в сторонке. И вот тот «парень», как ты говоришь, если бы прыгнул в реку сам и утонул, то стал бы самоубийцей – грешником. А если бы его утопили другие, то не было бы греха на его душе. Понятно теперь?
– Понятно… Понятно, но не понятно: ведь если бы его кинули в воду, то тогда грех был бы на его товарищах – они бы убили его, а ты сама говорила про заповедь не убивай. Как же так? И вообще своих товарищей в воде утапливать очень, по-моему, плохо и не по товарищески.
– А ведь в песне и не сказано, что они его утопили. В ней поётся только о том как грустно человеку жить на свете, когда его не любят. Так печально, что хоть в Волге топись. «Лучше в Волге мне быть утопимому, чем на свете жить не любимому!» Так что не расстраивайся – никто в песне не утонул, никто никого не утопил…
Запоминались мелодии песен и слова их, воображение создавало образы того, о чём пелось. Но только воображение: ни Волги, ни Нижнего Новгорода я не помнил. Да и помнить не мог. Уезжали мы из Нижнего холодным зимним днём, когда всё вокруг затопил сверкающий белый цвет сплошного снежного покрова. Очень хотелось увидеть и настоящий русский лес, и волжский утёс, где сидел лихой атаман, и пение жаворонка услышать над русским полем. И уже равнодушно глядел я на аккуратный, причёсанный, приглаженный, прибранный, красивый, но чужой для меня европейский ландшафт: и потому, что уже попривык, и потому, что знал – есть и покрасивее места на земле.
Читать дальше
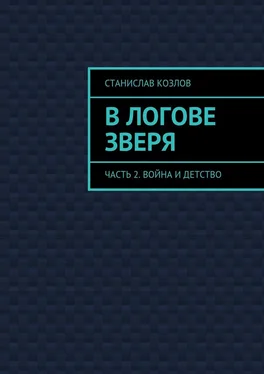

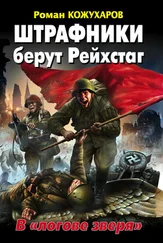
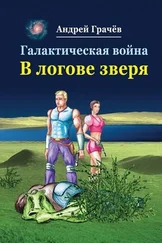

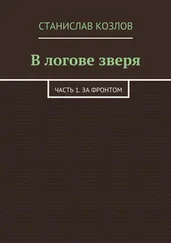
![Алексей Исаев - Берлин 45-го [Сражение в логове зверя] [litres]](/books/404851/aleksej-isaev-berlin-45-thumb.webp)