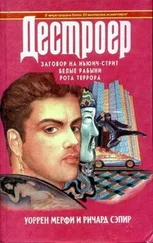— На что ты собираешься меня содержать? Сдашь бутылки от сегодняшней выпивки?
И после паузы:
— Учти, на моего папашку ты рассчитываешь зря. Сесть себе на шею он не позволит.
И добавила, смягчая:
— Нам.
Я снова попробовал обратиться к помощи Иветты. Ведя ежедневные обсуждения достоинств и недостатков повседневного любовника, можно и проговориться о появлении нового объекта интереса. Уже услышав один раз от честной Иветты твердое «нет» в ответ на свой прямой вопрос, я мог теперь применять только окольные средства. Это напоминало перетягивание паутины, микроскопическая неосторожность — и нить понимания лопается.
Несмотря на все примененные ухищрения, я не узнал ничего нового. Я в сотый раз услышал о том, что Даша удивлена моей тягой к безделью, моим нежеланием подумать о нашем общем будущем. По словам Иветты, Даша, по крайней мере на словах, смирилась со своей судьбой, в том смысле, что готова взять материальное обеспечение нашего счастья на себя. Это, конечно, ее не радует, но она свыклась с мыслью, что с ней рядом такой человек, который пальцем о палец не ударит, чтобы сделать счастливой любимую женщину.
Как всегда, закрыв ладонью трубку, я зарычал от бессильной злобы: не в этом было дело, не в этом! Но у меня не находилось внятных аргументов для опровержения ее ханжествующей правоты.
Каким женихам она отказала! Иветта помедлила, видимо, разворачивала бумажку с записями. Далее последовали имена маршальских внуков, сыновей генеральных конструкторов, племянников послов. И все лишь для того, чтобы оказаться в съемном шалаше малопишущего и многопьющего поэта.
Я продолжал рычать, слушая все это. Голос Иветты постепенно переходил на сторону обвинения. Ее бледная душа подпадала под обаяние чужого разочарования, она даже забыла о том, что сама является живым опровержением транслируемой теории.
— Какая совместная жизнь, Иветточка? Ведь она замужем и даже не заикается о разводе.
Мы проговорили еще с полчаса, и, как всегда, к концу нашей беседы Иветта полностью стала на мою точку зрения.
— Когда же ты будешь творить, если тебе придется зарабатывать на бесконечные туалеты?
— Вот именно.
— И что, кстати, такого смертельного в том, что этот старый сундук приложит кое-какие усилия для твоей карьеры?
— Ну, в общем, конечно.
Никакой информации, подтверждающей мои сомнения, но я не успокоился. Во-первых, Иветта, может быть, просто не проговорилась. На чем зиждется моя вера в ее клиническое простодушие? А во-вторых, эта назойливая критика моей лени, непрактичности и пьянства вполне может оказаться формой самооправдания. Я изменяю ему не потому, что я похотливая, сладострастная тварь, а потому, что он, наконец, невозможен, этот летаргический лоботряс.
Я забрался в душ и долго стоял под холодными струями, пытаясь таким механическим способом снизить градус своей истерии. Подозрительность серебрилась и свирепела, попираемая холодом. Интересно, я сошел с ума или я просто гений ревнования, способный лишь напряжением собственной души, без опоры на какие бы то ни было факты уяснить истинное положение вещей.
Хлопнула дверь.
Дашутка!!! Неженская пунктуальность. Она постучала в дверь ванной, извещая о своем появлении на территории, отведенной для любви. Я выключил воду и натравил на себя полотенце, растирая кожу до лихорадочного жара. Не одеваясь, на безумных цыпочках выкрался в коридор, полыхая всем телом. На тех же цыпочках, превращаясь по пути во вздыбленного страстью богомола, я вступил в сумеречную комнату.
Не знаю, какого я хотел добиться эффекта, но все равно опоздал. Дарья Игнатовна уже белела на покрывале в позе, которую объективный пошляк назвал бы соблазнительной.
Чувствуя, что проиграл, ощущая себя надоедливой нелепой жертвой, я ринулся к ней, и вместе с хрипом похотливого нетерпения из моего горла вылетели ошметки нищенского рыдания.
Легко видеть, что, несмотря на мои внутренние бури, наш роман в основных своих частях оставался неизменным. (Низменным.) Тянулась развратная весна. Вокруг железной сторожки орали в темноте коты. Институт напоминал театр теней. Какая-то неокрашенность во всем, выцвеченность. Жизнь столько раз проносилась по декорациям города, неизбежно изнашивая их способность выглядеть реальными. Телеги в Помпее продолбили знаменитые колеи в камне мостовых. Страстная, яркая зимняя жизнь иссушила замысел города. Поезда в метро с трудом узнавали станции, их била дрожь, как больных лошадей. Картина, которой мы привыкли восхищаться, совсем не та, что была триста лет назад, — она изъедена взглядами. Уличные люди стали как бы недостовернее, намного легче стало по весне нанести человеку мелкое транспортное оскорбление.
Читать дальше


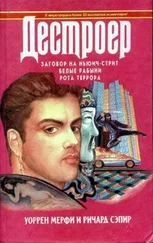
![Михаил Щукин - Рабыня [litres]](/books/35351/mihail-chukin-rabynya-litres-thumb.webp)