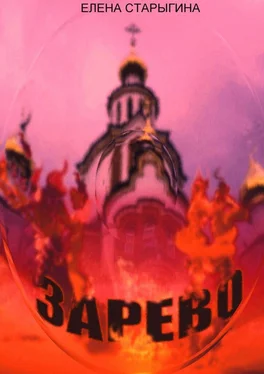Лизин дом стоял печален и тих. Над крышами сельчан струились сизоватые дымки, и только изба батюшки Николая словно умерла вместе со своим хозяином.
– Настасья? – окликнула дородную молодую девку, шедшую с коромыслом наперевес, Лизаветина соседка. – Настась, Лизавету не видала? Я сегодня с утра от окошка не отхожу – не видно бабы. К колодцу пошла, вдруг, думаю, встречу.
– Спит, небось, уханькалась вчерась, – больно она давеча, у гроба-то, убивалась. И чего так выть! Реви не реви – не вернешь теперь.
– Ну, Наська, язык бы тебе оборвать за такие слова! Ты сначала замуж выйди, поживи с мужиком, детей от него нарожай, а потом посмотрим, будешь выть или нет.
– Вот привязалась… Не подумала я, – дернула плечом Настасья. – А может, Лизавета к кому из соседей ушла?
– О чем судачите, бабы? – раздался позади голос пономаря Дмитрия Фокина.
– Да вот, говорим, где-то матушки давно не видать, кабы чо худого не случилось.
– Чем разговоры говорить, давно б зайти к ней могли, – и он быстрым шагом направился к дому покойного отца Николая.
Дверь была не заперта. Стукнув для прилику пару раз, Дмитрий, нагнувшись, чтобы не задеть головой низкий дверной косяк, вошел в холодную избу. Дети сидели на печи и грызли черствые корки.
– Здрасьте, дядя Дмитрий, – уныло поздоровались они.
– Здорово, орлы. Мать-то где?
– Там она, – кивнул Николка за загородку, – со вчерашнего дня не выходит.
Лиза сидела тихо. Слезы ее давно высохли, а на посиневших губах блуждала какая-то странная улыбка.
– Кх-кх… Доброго здоровьица, матушка, – неуверенно проговорил Дмитрий. – Лизавета! – безмолвная тишина.
Он подошел к Елизавете и с силой тряхнул ее за плечи.
– Лиза! Да ты что, едрит твою, в самом деле. Очнись! Ей-бо, с ума сошла баба…
Елизавета вздрогнула, поежилась и подняла выплаканные глаза на Дмитрия.
– А-а, Дмитрий, – произнесла она бесцветным голосом. – А я, вроде, задремала малость. Зябко-то как, – поежилась Лизавета и улыбнулась жалкой беспомощной улыбкой.
Сердце у Дмитрия сжалось от боли – вот оно, горе-то, что делает.
– Ты это, вот что, – сказал он, переминаясь с ноги на ногу. – Ты это брось, так изводить себя. Батюшка был хорошим человеком, да на все воля Божья. Ты не плачь, ты Богу за него молись, да еще о парнях своих подумай, – тебе на ноги их поставить надо. Давай-ка, вот что, – сказал он, почесав затылок, – хватит тут слезы лить, собирайся, у нас пока поживешь. Маруська моя быстро в чувство приведет, самой, похоже, тебе не справиться.
– Давай, давай, собирайся, – оборвал он засопротивлявшуюся было Елизавету, – а я на улице подожду, – и, нахлобучив шапку, Дмитрий поспешно вышел на морозный воздух.
Воронье все так же кружилось над притихшей деревней. Падал и падал снег.
Прошел девятый после похорон день, прошел поминальный сорокоуст. Постепенно оттаивала душа Елизаветы Ивановны, постепенно выходила она из своего забытья. Мир, который вдруг померк для неe, снова начал расцвечиваться красками.
Зима давно заявила свои права. Снегу навалило по самые окна, а перед новым годом ударили такие морозы, что нос за дверь было высунуть страшно. Елизавета помогала Марии, жене Дмитрия, по дому, а ее пострелы днями пропадали на улице. Придут с морозу веселые, румяные, посмотрит на них Лизавета, и сердце защемит – ведь чуть сиротами мальцов не оставила.
Уходил старый 1871-й год, уходили вместе с ним все беды и несчастья, свалившиеся на семью Селивановских. Заметало вьюгою деревенские улицы, заносило снегом крыши домов деревенских, засыпало могилы на кладбище. Торопилось, бежало время. Уходило в небытие все сегодняшнее, и только память, людская память, была неподвластна ни снегам, ни ветрам, ни времени. Воскрешала она морозными вечерами и веселые капели, и цветастое лето, и наряд подвенечный, и первый крик младенца, и скорбный горький панихидный звон.
Уходил старый год. Что-то ждет впереди, какие печали-радости?
Было то время суток, когда природа, утомившись за день, наслаждалась ею же созданною тишиной.
Солнце, нырнув в лохматое пурпурное облако, прощальным лучом коснулось верхушек колючих елей, поиграло кудрявой зеленью берез и, запутавшись в благоухающем многоцветье ржи, робко дотронулось до темных ресниц Константина. От нежного прикосновения Константин открыл глаза. Он лежал на теплой земле, слушая, как в траве стрекочет кузнечик.
Костя любил это время, любил поле, любил лес, что невдалеке, любил тишину и уединение. Давно, еще в детстве, он часто приходил сюда и, бросившись ничком в густые травы, мог часами лежать так, думая о бытие своем, о смысле жизни, о своих радостях – больших и малых.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу