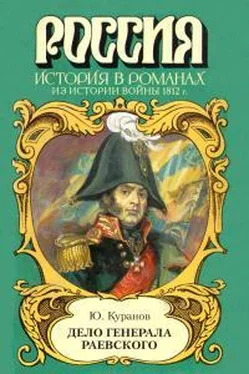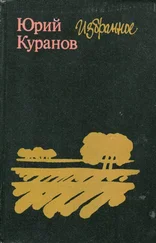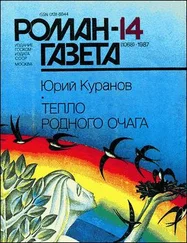— Вы помните, мы с вами езживали по югу отечества и вас встречали восторженные ваши почитатели, — сказал Пушкин, — а вы мне все говаривали: «Почитай, почитай им твои стихи, поймут ли они тебя».
— Было, было, — задумчиво согласился Раевский, глядя, как по комнате пробегает уже в который раз фазан, подаренный хозяину дома приезжим из Персии дипломатом. Фазан блистал, как бы весь покрытый чеканкой, и казался алмазным.
— Так вот, — продолжал Пушкин, — я хотел написать вам кое-что и вдруг понял, что всё уже написано: когда мы хаживали вдоль Подкумка вечерами по камням, я подобрал в свою тетрадь прилетевший мне под ноги цветок. И я положил его тогда в тетрадку. И вот на днях его я нашёл... Оно довольно странно в нашей ситуации, это сочинение, но примите его со всею свойственной ему странностью.
И Пушкин с какой-то юношеской грустью в голосе стал читать Раевскому стихотворение. Читал он его, поглядывая в окно:
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвёл? когда? какой весною?
И долго ль цвёл? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И ныне где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей невидимый цветок?
Вчера Николай Николаевич ничего не сказал Пушкину по поводу этого стихотворения. Только поклонился ему с благодарной улыбкой. Но сегодня он сказал:
— Вчерашние ваши стихи до глубины души меня тронули, и я почему-то вспомнил Машу.
Теперь Пушкин поклонился, вдруг покраснел и отошёл к окну, задёрнутому наполовину тяжёлой багровой шторой.
— Ия решил вам кое-что показать, — сказал Раевский. — Этот лист губернатор Цейдлер, по распоряжению государя, дал ей подписать, сказав: «Подумайте только об условиях, которые вы должны подписать». Маша подписала их не читая. Это копия.
Пушкин принял лист и, стоя у окна под угасающим светом зари, стал читать. И по мере того как он читал, рука его всё беспомощней дрожала. Пушкин читал сначала про себя, но потом медленно стал произносить строки вслух: «1-е, жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь, сделается естественно причастной его судьбе и потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльнокаторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить всё, что такое состояние может иметь тягостного, ибо даже и начальство не в состоянии будет защищать их от ежечасных, могущих быть оскорблений от людей самого развратного, презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ним участь, себе подобную; оскорбления сии могут быть даже насильственные. Закоренелым злодеям не страшны наказания. 2-е, дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне. 3-е, ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собою взять не дозволено; это запрещается существующим правилом и нужно для собственной их безопасности по причине, что сии места населены людьми, готовыми на всякого рода преступления. 4-е, отъездом в Нерчинский край уничтожается право на крепостных людей, с ними прибывших».
Пушкин долго и молча держал перед собою прочитанный лист, глядя в окно на засыпанную снегом, посиневшую Мойку.
— Это богохульное принуждение, — сказал Раевский, — он присваивает право разрушать то, что скреплено Богом на Небесах.
— При венчании, — поддержал Пушкин.
— Нет никаких законов на этот счёт даже на земле, в империи, — сказал раздражённо Раевский.
— На многое из того, что он делает, нет никаких законов. И быть не может. Он хуже Римского Папы, — сказал Пушкин и долго смотрел на Мойку.
Молчание и сумерки сгущались. Фазан сидел уже на спинке португальского стула из чёрного дерева. Он тоже потемнел, но всё ещё мерцал в сумерках.
— Любой отец может гордиться такой дочерью, — сказал Пушкин и посмотрел сквозь окно на небо.
Там длинно растягивалась из-за горизонта освещаемая полоса, которая рассыпчато над Невою растягивалась. Раевский встал из кресла, в котором сидел возле затухающего камина, и подошёл к окну, следя глазами за этой полосой. Он был в блузе чёрного бархата, в которой любил ходить в Болтышке, в своём южном имении.
Пушкин пристально смотрел со стороны на лицо генерала, тускло освещаемое зарей. Потом он еле слышно произнёс!
Читать дальше