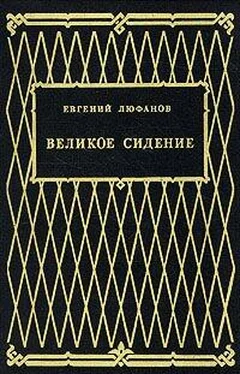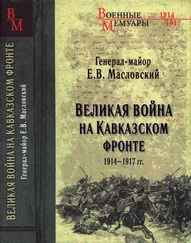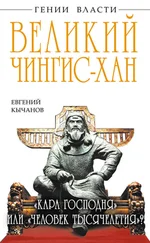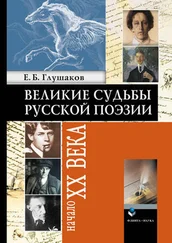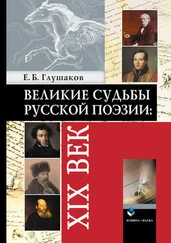Какие только меры не приходится принимать, дабы словоблудцы языки прикусили, а трусы заикаться бы от испуга не стали. Недавно было: раскольник предсказывал, что первого ноября Нева выйдет из берегов, затопит весь город и волны ее покроют вершину дерева, стоящего возле крепости. Пугливые устрашились, приходили к тому дереву, прикидывали, сколь высока вода будет, да на крик от страха кричали. Приказал дерево напрочь срубить, а предсказателя посадить в крепость, и как в назначенный им день никакого наводнения не случилось, то повелел отсчитать сему лжепророку полсотни ударов кнутом. Теперь неповадно будет пророчить… Много, много хлопот, и отлеживаться нисколь времени нет.
– Лаврентий, скоро вставать мне?
– Как поправитесь, так и встанете, ваше величество, – отвечал Блюментрост.
Нет, похоже, не скоро придется встать, болезнь нисколько не убывает.
Только что говорил с Блюментростом, а вот уже опять в полубреду. Мучительно перебирал в памяти нужное и ненужное, утомлял себя разными спорами и видениями. Ну, для ради чего примерещился сей домодельный провидец наводнений?.. Зачем он?.. И ясно видна волосатая бородавка у него на носу. Зачем он нужен, зачем?..
Петр устал думать и, запутавшись в сроках, бродить по своей прожитой жизни да рассказывать самому себе о давно уже позабытом, стершемся в памяти и ненужном. Иногда с испугом смотрел на Блюментроста, приготавливающего лекарство. «Травить хочет, травить…», – и, когда тот подносил ему ложку с микстурой, выбивал ее у него из рук.
– На дыбу пойдешь… к Ушакову… – злобно шептал ему. И прогонял его. Всех прогонял, не терпя около себя никого.
В надежде хоть на короткое время забыться во сне лежал, закрыв глаза, а мысли тогда еще безудержнее копошились в его голове, словно черви. Прыткими фискалами подскакивали одна за другой, напоминали, предупреждали, разыскивали где-то в дебрях его памяти былое, содеянное и задуманное, обличали в нерадивости его самого.
Он сел на кровати, спустив с нее похудевшие ноги. Кружилась голова. Дотошные фискалы, фискальчищки, фискальчонки зашептали наперебой нечто невразумительное в самые его уши. Он понимал, что прогнать их можно лишь громким и грозным окриком, а голоса не было и не хотели разжиматься горячие, будто накрепко спекшиеся губы. Он шире раскрыл глаза, увидел и изумился, какое множество было их в комнате: были тут и сельские – волостные, и земские – городские, и губернские, и столичные, рядовые и обер-фискалы. Выпучив свои бельма, не моргая и не дыша, они указывали на него своими крючковатыми пальцами. И тогда Петр встал, поняв наконец, что он сам с сего дня есть великий, венценосный фискал, коему надлежит в недалеком предбудущем времени нашептывать в старческое, морщинистое, седыми волосами заросшее ухо всевышнего Саваофа, – нашептывать ему великую правду и великую ябедную ложь о своих верноподданных: об их прелюбодействах, содомском грехе, чародействе, богохульстве, обмане, заповедной продаже, о том, что испортились нет ли дороги, не повалены ли верстовые столбы, не стоят ли пустыми царевы мельницы, кабаки и его, боговы, храмы; не шляются ли зря по земле гулящие люди, не подкрадывается ли шпион, не доставляются ли тайно запретные товары, не уходит ли кто из смертных тишком за границу, не имея проезжих бумаг, не клянут ли некие люди имя царево и богово? За многое надобно отвечать.
И еще надлежало дать самый главный ответ: кого оставит он после себя блюсти верноподданных?.. Ну?.. Кого?.. Говори!..
А он и не знал, что сказать, хотя понимал, что подходит последний срок, последний предел.
Кладет теперь он, царь Петр, свою полувековую, многотрудную, многодумную жизнь, кладет Россию свою, свой народ, а кто возьмет это все? Кто будет наследником?.. Кому надобно напоследок пристально посмотреть в глаза, испытать взглядом совесть, душу и сердце? Достоин ли будет принять оставленное, преображенное?.. Кого зараньше благословить или проклясть?..
На голубых печных изразцах уплывали в море, как чайки, легкие корабли. В деревянных кадках близ окон стояли цветы.
И эти нарисованные корабли, и эти цветы, как деревья, вызывали мысли о лесе, о смоляных запахах адмиралтейского двора.
Он закусил губу, немного подумал и, кивнув в сторону печки, коротко приказал:
– Пиши.
Прошелся по комнате из конца в конец и стал диктовать указ:
– «Буде станут противиться непослушные и свершать порубку дерев, то за содеянное в первый раз взимать с таковых великую пеню, а за содеянное в другой раз вырезывать ноздри и посылать провинившихся в каторжные работы. А в ранее запретных лесах Петербургской губернии за порубку годных к корабельной постройке дерев виновный будет казнен злою смертью… Написал?.. Строчи дальше: у кого же охота бегать взапуски и держать заклады, те могут упражняться в Ямской слободе, либо на льду…»
Читать дальше