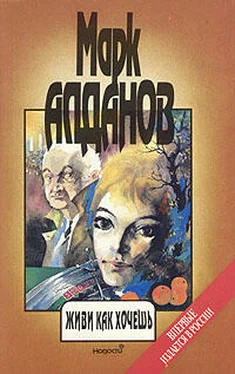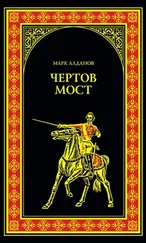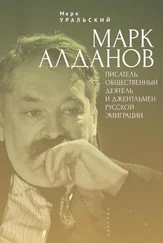Она взглянула на часы, пропустила один за другим два поезда, села в третий и вышла на указанной ей станции. На лестнице остановилась, взявшись крепко рукой за перила. «Нет другой дороги… А если дегенератка, так тем более нет другой дороги!» – мысленно повторяла она. Посмотрела на часы: всего двадцать восемь минут третьего. «Может быть, мои идут неверно?» Спустилась к кассе, над которой были часы. Прийти надо было – особенно в первый раз – совершенно точно. «Отстают на две минуты. Запомнить: на две минуты. Эта кассирша верно воровка"… Тони и в себе, и в других больше ничего не видела кроме мерзости, и это доставляло ей наслаждение. „Я пропала, а вам и пропадать незачем, вы от природы мерзавцы“, думала она, с ненавистью глядя на спускавшихся в подземную дорогу людей. „Эта дылда похожа по фигуре на обернутый шелком сосновый пень. Куда-то торопится, верно рассказать гнусную сплетню, заранее восторг на лице… Этот иностранец убежден, что все женщины от него без ума, и галстучек какой нацепил, купил на распродаже в универсальном магазине… Этот господин с ленточкой несколько лет тому назад восхищался фюрером, делал делишки с немцами, а потом пожертвовал сто франков на Резистанс и всех уверяет, что он с первого дня, с самого первого дня… Кого этот городовой сегодня избивал?.. Они это называют passer à tabac, и слово какое игривое. А эта, тоже иностранка, ищет кому бы продаться… Все продажны, все“, – думала она. И тут же ей вспомнилось, что и Анне Карениной все точно так же кажется мерзким в ее последний день, перед самоубийством. «Но если я вспоминаю Анну, то значит, я не сплю и не брежу?.. Нет, это ничего не доказывает: литература тоже часть нашей жизни, и люди из знаменитых романов тоже нам снятся вместе с людьми, которых мы знали. Для меня чувства Лермонтова и Языкова всегда были реальнее, чем мои собственные чувства… Быть может, наоборот, на яву я не стала бы думать мыслями Анны?.. Анна покончила с собой, а я, напротив, начинаю новую жизнь. Или же мне в морфинном бреду кажется, будто я что-то начинаю, куда-то иду, а я сплю на своей постели?.. Да, о чем же я думала? Об этих людях, которых я будто бы ненавижу, как их ненавидела Анна Каренина. Нет, я их не ненавижу, они просто для меня не существуют. Конечно, они ненавидят нас, коммунистов. Если правда, что я коммунистка, если я в самом деле иду к ним, а не грежу. Они называют свободой рабство, в котором все они находятся у денег. Ничего, придут сюда коммунисты, они все перекрасятся, кто на следующий же день, кто через месяц. И сам Дюммлер, если доживет, перекрасится, он верно только месяца через два и с достойным письмом в редакцию «Правды": признает свои заблуждения, найдет философское объяснение и расскажет исторический анекдот"…
Вправо уходила широкая красивая, засаженная деревьями аллея. Проверила название, – да, та самая, – нашла сторону четных номеров. «Эти „аристократы“ дети лавочников и нажились на войне… Еще десять домов… Еще восемь. Пока могу отказаться. А когда дойду до того палисадника, то уже нельзя будет… Нет, можно будет и тогда, нельзя будет только когда позвоню. Три раза подряд, быстрые короткие звонки, помню, помню, я все-таки еще не совсем сошла с ума… Чепуха эти damnosum и вся эта немецкая книга, которой Дюммлер будто бы так восхищается… Да, и он тоже хорош… Тридцать четыре минуты третьего. Тридцать четыре плюс две: тридцать шесть. Раньше тоже не следует приходить, и гулять около той виллы нельзя: он еще, может быть, будет подглядывать из окна, следить, как я себя веду… „Не здесь ли продается детская колясочка?“ Спросить очень спокойно, чтобы не дрогнул голос И надо, чтобы была приветливая улыбка … И все для себя замечать… Ничего, если он заметит, что я все замечаю. Это даже лучше: оценят"…
Затем долго сидела на скамейке, чтобы не прийти слишком рано. Думала о Гранде. «Конечно, он вор, самый настоящий вор. И я знала, что он на все способен. Да, да, совершенно ясно, как это было. Я ему в последний раз денег не дала. Если б были, дала бы, но их не было. Делавар отказался купить дом. Из афер ничего не вышло. Может быть, он проигрался или выдал чек без покрытия, кажется это так у них называется. Вот он решился и на простую кражу. Вероятно, он это сделал тогда, когда я с Фергюсоном ездила в Страсбург. Я тогда оставила камни в ящике, он взял их и заказал поддельные. Риска не было никакого, он знал, что я жалобы не подам и не могу подать: надо было бы объяснить, откуда эти бриллианты, и почему я их пять лет не отдавала властям, и почему я ходила их оценивать, и что это за стальной ящик в стене, и что это за помещение, и какая „Афина“. Я сделала бы посмешищем и Дюммлера, и Фергюсона: вот какого они достали Хранителя Печати !.. Зачем он вставил вместо настоящих камней поддельные? Он мог просто унести ожерелье. Но он надеялся, что я скоро не продам и не замечу подделки. Через год следы были бы потеряны, я подозревала бы не его, а кого-нибудь другого. Все-таки ему верно не хотелось, чтобы я подозревала его в воровстве. В чем угодно другом, но не в воровстве, не в таком воровстве… Он меня немного любил и очень преувеличивал мою любовь к нему, думал, что я и поэтому на него не донесу… Где он теперь?» Тони посмотрела на часы. Было без шести минут три. – «Еще шесть минут и все будет кончено».
Читать дальше