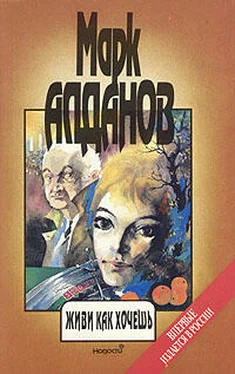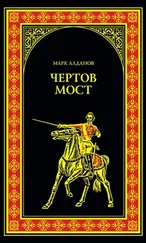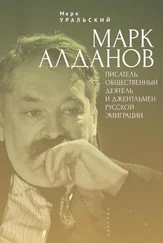– Мне чрезвычайно интересно все, что вы говорите, Николай Юрьевич.
– Вы очень любезны, – сказал Дюммлер. – Вы спрашивали об «Афине». Я и бываю там теперь редко, это помещение печально, как на море заколоченная на зиму гостиница… Очень милая, ваша невеста, очень, – неожиданно сказал он, внимательно глядя на Яценко. – У нее могут быть некоторые небольшие недостатки, но ведь надо помнить и то, через какую школу она прошла. Ведь она советское дитя. Тут снисходительность обязательна.
– Снисходительность? – с недоумением спросил Виктор Николаевич. Ему было непонятно, что хотел сказать старик и зачем он это сказал.
– Ну, что ж, счастливого вам пути. Простите, что нагнал на вас тоску. Это мне в общем не свойственно. Как ни правдоподобно теперь к несчастию, что мир погибнет, мне не хочется расставаться с «просветленным состоянием», в котором прошла последняя и, несмотря на просветленность, худшая часть моей жизни. Просто душа этого не приемлет. После Дюнкерка и взятия Парижа теоретически все было почти кончено, но душа Черчилля и де Голля этого не приняла. Они все поставили на «почти», на «а вдруг», и спасли мир тем, что действовали вопреки рассудку. Тогда, правда, можно было надеяться на глупость врага, и эта надежда именно и оправдалась. На что надеяться теперь? Смысл жизни только в том, чтобы помогать tuche за счет moira. И тут ни от какого орудия воздействия отказываться нельзя: Юнеско так Юнеско. Кинематограф так кинематограф… Наша главная надежда, наша единственная надежда: на «искорку». Какое счастье, что в душу человека заложена эта непонятная любовь к свободе и к правде! Искорка эта слаба, она еле заметна, она часто почти гаснет, она исчезает в одном месте и проскакивает в другом, но в ней есть своя огромная сила. Миру теперь нужно возрождение или, быть может, создание духовных ценностей, которых было мало у царей и революционеров, у Бисмарков и у Марксов. Уж лучше иметь спорные, пусть даже ошибочные, но не гнусные духовные ценности, чем не иметь никаких. Для меня есть одна ценность и по сей день совершенно бесспорная: это свобода. Прежде я верил еще в другую, в человеческое достоинство, теперь, после всего пережитого, в нее верю меньше. Эти полторы ценности предполагают еще многое: не задавливать людей трудом, помнить, что и бедным людям хочется жить. Я теперь смотрю на жизнь немного со стороны. Сахарина, однако, терпеть не могу и в жизни, и в искусстве, и в философии… Прежде я еще мог писать… А теперь я, как люди, которые потерпели крушение и из спасательной лодки смотрят на встречный пароход. Я даже и сигналов не подаю. Пароход не видит и проходит мимо… До новых общечеловеческих катастроф я не доживу, передо мной уже вплотную не tuche, a moira в виде удара или рака предстательной железы: вопрос только в том, что из двух придет раньше. Я уж предпочел бы воспаление легких… А то будет один из тех несчастных случаев, которые так часто происходят со стариками – упал, ушибся – и укорачивают их жизнь или умиранье. Был человек и нет человека. Смешно и гадко: меня иногда в мои годы еще тянет на какую-то работу! Случается, по воскресеньям злюсь, что нет почты. А иногда, напротив, думаю: «Слава Богу, до понедельника не будет ни одного письма». Вы видите, я «раздираем противоречиями», как пишут умные литературные критики о разных персонажах романов.
– Зачем же… – начал было Яценко, но Дюммлер перебил его:
– Сегодня я проходил мимо одного дома… Там жила женщина, которую я когда-то любил… Нет, все-таки неужто ничего не останется?..
У него вдруг выступили на глазах слезы. Он встал и обнял Яценко.
– Прощайте, дорогой мой, мы больше никогда не увидимся. Помните, что надо все-таки принимать жизнь. Часто говорят: «Начинать все сначала? Нет, ни за что!» А я с великой, с несравненной радостью все начал бы сначала: опять старый Петербург, опять наш дом, и все «продолжение следует». Все принимаю, все! По завету Данта: «alla Fortuna come vuol soi pronto». [50]
– И я был бы готов начать все сначала. Прошел бы снова через страшные советские годы, лишь бы снова увидеть Россию времен моего детства… И не что-либо там важное, основное… Я иногда вижу перед собой уголок Летнего сада – и на глазах выступают слезы. Тургенев где-то описывает природу «великорусской Украины». Мой отец был родом из тех мест, и он полушутливо говорил, что он не простит Тургеневу двух слов в этом описании: вишни будто бы там были «жидкие». Как сейчас помню, отец говорил: «А на самом деле таких вишен нигде в мире не было и не будет!"
Читать дальше