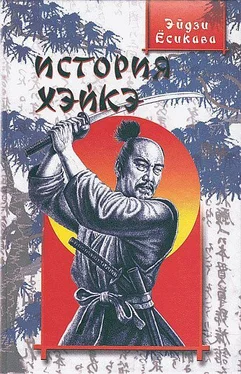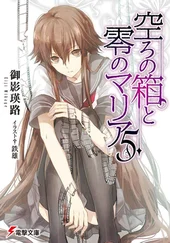– Что же ты ждешь от меня?
– Дайте мне вас ударить! Отец не станет – он не осмеливался поднять на вас руку все двадцать лет.
– Боги покарают тебя, Хэйта!
– Как покарают?
– В те минувшие дни его величество собственной персоной какое-то время любил мое тело. Останься я при дворе, меня бы там уважали, но я понизила свое положение, войдя в этот дом! И думать, что ты осмелишься поднять на меня руку, – значит предать его величество. Тогда я не смогла бы простить даже собственного сына!
Оглушительный крик Киёмори заполнил комнату.
– Дура! Представь, что это я – его величество! – Изо всех сил он отвесил матери звучную оплеуху так, что она упала.
– Молодой хозяин рехнулся!
– Эй, вы, там! Сюда, молодой хозяин одержим демонами!
– Смотрите, как беснуется! На помощь!
– Скорее!
И сильное волнение пронеслось над всем домом.
Даже обеднев, Тадамори одно время управлял провинциями и как член дома Хэйкэ занимал пост в императорской страже в Приюте отшельника. И хотя сейчас его семья существовала впроголодь, он настаивал на сохранении свиты из пятнадцати или шестнадцати слуг. К их числу принадлежал и управитель Хэйроку, сын Мокуносукэ.
Зная, что утром отца позвали в комнаты хозяина, и опасаясь за его безопасность, Хэйроку притаился за изгородью рядом с двором. Услышав крики и громкие голоса, он вскочил и принялся звать остальных слуг, затем стрелой пронесся через внутренний двор, на ходу сообразив, что шум длился всего несколько мгновений.
Ясуко лежала на земле лицом вниз, будто оступилась на пороге, и даже не пыталась подняться. Киёмори стоял, тяжело дыша, а отец крепко держал его за руку. Цунэмори и Мокуносукэ с выражением облегчения и замешательства на лицах, по-видимому, не представляли, что им теперь нужно сделать.
Услышав звуки торопливых шагов, Ясуко, до того лежавшая неподвижно, подняла голову и завопила:
– Эй, вы, пригоните сюда карету! Пошлите гонца к моим родителям, пусть расскажет им об этом! О, позорное злодеяние…
Один из слуг выбежал со двора, чтобы привести карету из ближайшей конюшни, а другой помчался прямо к особняку Накамикадо на Шестой улице. Тадамори бесстрастно наблюдал, как слуги спешат выполнить ее приказы.
Вскоре прибыла карета, и Ясуко в полуобморочном состоянии с помощью слуги добралась до ворот. Некоторое время ее высокий, слезливый голос смешивался с плачем Цунэмори и его младших братьев. Тадамори стоял неподвижно, словно решив не реагировать на эти звуки.
– Хэйта! – Он выпустил руку сына. Сжатая будто тисками и затем освобожденная артерия на руке пропустила мощную струю крови, которая бурно помчалась по всему телу Киёмори. Пульс в венах на его висках забился сильнее, и он разразился рыданиями, не стыдясь, чувствуя себя брошенным ребенком.
Тадамори притянул к своей груди лицо Киёмори, все испещренное полосками от слез, потерся щекой о жесткие волосы сына и сказал:
– Наконец я торжествую! Могу отпраздновать победу над этой женщиной. Прости меня, Хэйта. Я трусливо позволил тебе ее ударить. Как отец, я проиграл, но я позабочусь, чтобы ты больше не страдал. Вот увидишь, как я восстановлю доброе имя Тадамори из дома Хэйкэ. Не осуждай меня своими слезами. Остановись.
– Отец, я понимаю ваши чувства.
– Ты по-прежнему называешь меня отцом?
– Да. Позвольте мне называть вас «отцом», отец!
Ярко блестел полумесяц. Из-за поднимавшегося сиреневого тумана доносилось слабые звуки колыбельной, которую пел Мокуносукэ.
На обширной территории Восточной Третьей дороги в Киото стоял Приют отшельника, куда после отречения удалялись императоры. Однако со времен императора Сиракавы их пристанище стало центром правительства настоятелей монастырей, развитая структура которого соперничала с восемью управлениями и двенадцатью ведомствами самого двора. И таким образом оказалось, что маленькая столица содержала два правительства. Но когда весна приносила в Киото быстро разраставшуюся зелень ив и запах свежей почвы, немногие вспоминали, что этот город – центр политической жизни страны. Он превращался в метрополию наслаждений, столицу моды и город любви, в котором придворная знать и служащие Приюта отшельника, отложив свои обязанности, предавались веселью – не то чтобы подобного не происходило в другие времена года, просто весной это бросалось в глаза, ведь для любого придворного было бы позором не сочинить в честь весны несколько стихотворений.
Читать дальше