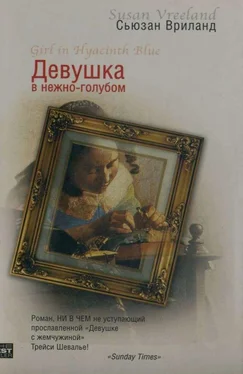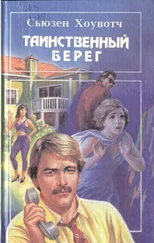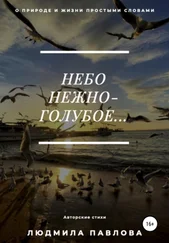Этими словами и окончилась ночь: я отвернулась, укрылась с головой и усмехнулась, вспомнив, как на обратном пути, таща за собой Агату, точно баржу на буксире, едва не столкнулась с месье ле К., крадущимся наружу. Помню, я еще подумала перед сном: «А все-таки жаль, что мы так и не достали гиацинтов».
Об обиде не могло быть и речи. То, что я не нападала на хозяйку Маурицхёйса (которая, дай ей Бог здоровья, впервые познакомила меня с прелестями голландских концертов), не обвиняла Жирара в неверности и оставалась практически безучастной к его судьбе, — все указывало по меньшей мере на холодность наших отношений. Правда, Гаага, как с гордостью сообщит любой голландец, — это город, где разум торжествует над чувствами, и я с радостью ухватилась за то, чего прежде боялась. Измена (его ли, моя — не важно) даровала мне свободу. Лучше побыстрее покинуть этот город — и страну! — чем попасть на язык здешним дамам, которые рассказывают пошлейшие сплетни, жеманно обмахиваясь веером вдали от дочерних ушей. Пораскаиваюсь до конца лета в садах у тетушки в Провансе, а потом — в Париж, к Шарлотте, где театр и опера отвлекут от грустных мыслей. О, благословенный вздох полной грудью, будто при расшнурованном корсете! О, заветная свобода — стоит только попасть в Париж.
Но как оплатить дорогу? Ждать денег от отца немыслимо — на это уйдут недели. Он начнет писать письма с расспросами. А мне лишней ночи нельзя оставаться в Гааге. Надо было подумать. Крепко-крепко подумать. Что у меня есть?
Ответ был горек: картина!
На следующее утро, стараясь не смотреть на изображение, я сняла ее, завернула в прозрачную ткань и послала за экипажем. Бумаги на картину лежали у Жирара под замком; что ж, придется обойтись. Я начала с лавки ван Хула — безрезультатно: он лишь выискивал изъяны в товаре. Я собралась уходить, и мой взгляд невольно остановился на картине. То, что я поначалу принимала в девочке за простоватость, теперь казалось мне чистотой и невинностью. Ее спокойный взгляд жег меня. Я видела в ее глазах не просто юность, а нечто глубже. Когда она дорастет, то готова будет поставить на карту все, пожертвовать чем угодно, перенести любые лишения ради любимого.
— Это тебе не просто картина, — сказала я тогда продавцу. — Ты смотришь в самую душу безгрешной девицы.
Мне было стыдно за наше поведение перед девочкой: я боялась пошлостью ранить ее.
— Вы уверены, что это Вермер? — спросил он меня.
— Совершенно.
— И бумаги подтверждают?..
— Что картина написана Яном ван дер Меером Делфтским и продана с аукциона в Амстердаме около века назад. Точного времени и места не помню. — Я взмахнула платком, всем своим видом показывая ничтожность подобных деталей.
— Подписи нет. Если бы в ваших бумагах говорилось, что автор — ван Мирис, я бы с удовольствием выложил за нее двести гульденов, но за Вермера — пф!
Не говоря ни слова больше, я завернула картину, отнесла ее другому торговцу и сказала, что это ван Мирис.
— А вы уверены, что не Вермер?
— Уверена.
Он тоже потребовал документы, а когда их не оказалось, предложил мне лишь двадцать четыре гульдена. Чего едва-едва хватало на дорогу до Парижа. Я согласилась и всю дорогу до дома проплакала в экипаже.
Слава Богу, Жирар ушел в министерство. Я быстро набросала записку Шарлотте: «Убегаю в Париж. Подготовь отца. А потом приезжай в Прованс до конца лета».
Когда чемоданы погрузили в экипаж и мне помогли забраться внутрь, я уже не плакала. Я хотела зарыдать — но без труда подавила в себе это желание. Жирар останется здесь, будет жить и процветать, поэтому если и лить слезы, то не по нему. И не по месье ле К., и даже не по мне самой. Лишь картина заслуживала слез: ей суждено теперь скитаться сквозь года без авторства, словно внебрачному ребенку, а это заслуживало куда более искренних слез, чем те, на которые я способна.
Любовь — из того, что мне довелось узнать, — большая глупость. Трепещущие сердца, горячая кровь, бездонные глаза… ерунда. Будь практичнее, дорогая: хочешь трепещущее сердце, а получаешь трепещущие ноздри. Если я действительно повидала любовь, то ничего в ней хорошего нет. Впрочем, теперь я точно знаю, чего любовью считать нельзя, а это столь же полезно, пусть и не так приятно, как выяснить, что такое любовь. Там, в экипаже, выглядывая из окошка на крестьян, корячащихся на картофельных полях, я поняла, что могла бы, как и потерянная девочка, постоянно сидеть и смотреть в окно. Оказывается, можно просто сидеть и думать. Настоящая жизнь, увы, далека от фантазий, но это не значит, что нельзя фантазировать. Что же до месье ле К… Хоть я и не помню его лица, я каждое Страстное воскресенье продолжаю возносить за него молитвы в церкви Марии Магдалины. Я от всей души благодарю его за свою новую жизнь.
Читать дальше