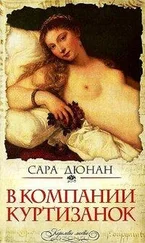– Знаете ли, художник, если вы хотите здесь преуспеть, то вам нужно хоть немножко научиться разговаривать. Даже с женщинами.
Его глаза чуть косят в мою сторону, и я догадываюсь, что он прислушивается к моим словам, но едва я их произношу, как мне делается неловко за их грубость. Немного погодя я шевелюсь, меняю положение тела. Он прерывается, ждет, пока я снова замру. Я ерзаю. Чем больше я стараюсь сидеть неподвижно, тем неудобнее мне делается. Я потягиваюсь. Он снова ждет. Только теперь я осознала открывшуюся возможность: раз он не разговаривает, я не стану сидеть как следует. Успокоившись, я подношу левую руку прямо к лицу, нарочно загораживая его. Руки – их всегда трудно рисовать. Они костлявые и мускулистые одновременно. Даже наши величайшие художники обычно бьются над ними. Но вот он уже снова рисует; на этот раз царапанье грифеля о бумагу настолько настойчивое, что я сама чувствую знакомый зуд в пальцах – желание поскорей взяться за грифель.
Через некоторое время мне надоедает попусту упрямиться, и я снова кладу руку на колени и растопыриваю пальцы – они топорщатся, будто чудовищные паучьи лапы. Я наблюдаю за тем, как белеют костяшки, и вижу, как под кожей бьется единственная жилка. Какое же диво – человеческое тело, сплошь заполненное самим собой. Когда я была помладше, у нас в доме жила невольница-татарка – девочка с буйным нравом, страдавшая от припадков; когда на нее находило, она падала в судорогах наземь, запрокидывая голову так сильно, что шея напрягалась и вытягивалась, делаясь похожей на лошадиную, а пальцами впивалась в пол. Однажды у нее изо рта вырвалась пена, и нам пришлось засунуть что-то ей между зубами, чтобы она не подавилась собственным языком. Лука (которого, как мне сейчас кажется, дьявол всегда занимал гораздо больше, чем Бог) считал, что в нее входит бес, но мама говорила, что девочка просто больна и ее нужно оставить в покое. Потом отец продал ее, хотя я не уверена, что он открыл покупателю всю правду о ее нездоровье. Да, тот недуг легко было принять за одержимость. Она была бы идеальной моделью для художника, решившего изобразить Христа, исцеляющего бесноватого.
Лодовика громко храпит. Пробудить ее сможет только удар грома. Сейчас – или никогда. Я встаю с места:
– Можно посмотреть, что у вас получилось?
Я чувствую, как он цепенеет, и вижу, что он хочет спрятать от меня рисунок, но в то же время понимает, что это будет не совсем прилично. Что же он сейчас сделает? Схватит бумагу и грифель и выбежит прочь? Снова на меня набросится? Если он это сделает, то очень скоро окажется верхом на муле и поскачет обратно в свои северные пустоши. А при всей молчаливости глупцом он мне не кажется.
У края стола смелость меня покидает. Я подошла к художнику так близко, что замечаю темные точки щетины у него на лице, а сладковато-гнилостный запах делается еще острее. Это наводит на мысли о разложении и смерти, и я вспоминаю, в какую ярость он впал тогда, в прошлый раз. Я с тревогой озираюсь на дверь. А что, если кто-то войдет? Наверное, он думает о том же самом. Одним неловким движением он толкает доску с рисунком, повернув его ко мне изображением, чтобы я не подходила к нему еще ближе.
Лист заполнен зарисовками: вот набросок моей головы целиком, затем отдельные части лица – глаза, чуть прикрытые веки, передающие какое-то промежуточное выражение между робостью и лукавством. Он ничуть не польстил мне, как я иногда льстила Плаутилле, рисуя ее, чтобы она на меня не ябедничала. Нет, я вижу здесь саму себя, очень живую, полную и озорства, и волнения – словно мне запрещено говорить и в то же время трудно молчать. Он уже знает про меня гораздо больше, чем я – про него.
А вот и зарисовки моей руки, прислоненной к лицу: и ладонь, и тыльная сторона, и пальцы – маленькие колонки живой плоти. С натуры они перенесены на бумагу. У меня голова начинает кружиться от его мастерства.
– О! – невольно вырывается у меня от горечи и изумления. – Кто вас этому научил?
Я снова гляжу на свои пальцы – на живые и нарисованные. И мне больше всего хочется видеть, как это у него выходит, хочется понаблюдать за тем, как ложится на бумагу каждый штрих. Только ради этого я рискнула бы подойти еще ближе. Я гляжу на его лицо. А что, если молчит он не от спеси, а от робости? Каково это – быть настолько робким, что даже заговорить боязно?
– Вам, должно быть, тяжело здесь, – говорю я спокойно. – Я бы, наверное, тоже тосковала по родным местам.
Читать дальше