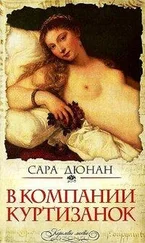Я вхожу медленно, за мной по пятам следует старуха Лодовика. Мария, увы, слегла с острым приступом несварения. Мне искренне ее жаль, и хоть я проклинала ее в тот день, я была совершенно непричастна к тому, что бедняжка объелась и теперь хворала. Когда я об этом вспоминаю, то не могу не подивиться неисповедимости путей Господних. Как тут не поверить – как это было с петлей палача, – что тут не обошлось без руки Его!
Когда мы входим, он встает, но смотрит в пол. Из-за старческой подагры Лодовики мы идем очень медленно, и я уже попросила поставить для нее удобный стул поблизости. В это время дня она рано или поздно непременно уснет, а потом конечно же забудет о том, что спала. В таких случаях она делается мне незаменимой помощницей.
Если он и помнит о нашей последней встрече, то никак этого не показывает. Он жестом приглашает меня взойти на залитый светом помост, где деревянный стул с высокой спинкой поставлен под таким углом, что, когда я усядусь на него, наши взгляды не будут пересекаться. Я делаю шаг вверх и сразу же начинаю стесняться своего роста. Похоже, мы с ним оба одинаково волнуемся.
– Мне сесть?
– Как хотите, – бормочет он, все еще избегая моего взгляда. Я усаживаюсь в позе, в какой обычно изображаются женщины на портретах в часовнях: прямая спина, голова поднята, руки сложены на коленях. А вот с глазами не знаю, что делать. Некоторое время я гляжу прямо перед собой, но мне делается скучно, и я скашиваю глаза влево: так мне видна нижняя половина его тела. Я замечаю, что его кожаные штаны изодраны внизу, зато сами ноги красивой формы, хоть и длинноваты. Как и мои. Постепенно я начинаю ощущать исходящий от него запах, на этот раз гораздо более сильный: это земляной дух, смешанный с чем-то кислым, отдающим почти что гнилью. Я диву даюсь – что же он делал этой ночью, что от него так воняет? Видимо, он редко моется – я уже слышала от отца, что такое водится за чужеземцами, – но если сейчас коснуться этой темы, то никакого разговора у нас точно не получится. Я решаю предоставить это Плаутилле. Она от вони точно взбесится.
Время идет. Под лучами солнца мне делается жарко. Я бросаю взгляд на Лодовику – сидит, на коленях вышиванье. Вот она откладывает иголку и некоторое время за нами наблюдает. Но к искусству Лодовика особой склонности не питала, даже когда видела хорошо. Я медленно считаю до пятидесяти и уже на счете «тридцать девять» слышу, как к ее дыханию примешивается грудной рокот. Кажется, будто в тишине часовни мурлычет огромная кошка. Я оборачиваюсь и гляжу на нее, затем бросаю беглый взгляд на художника.
При сегодняшнем освещении я могу его рассмотреть получше. Для человека, который провел ночь, бродя по городу, выглядит он, пожалуй, неплохо. Он причесан, и волосы его хотя и длинноватые, по меркам нынешней флорентийской моды, зато густые и здоровые, и рядом с этой пышной шевелюрой лицо его кажется еще более бледным. Он высокий и худой, как и я, но для мужчины такая фигура – меньший недостаток. У него широкие изящные скулы, глаза миндалевидной формы, цвета пестрого мрамора – серо-зеленые, с черными крапинками, – так что взгляд у него почти кошачий. Он не похож ни на кого из тех, кого я видела раньше. Я даже не могу понять, красив ли он, хотя, быть может, это оттого, что он весь словно спрятался в свою скорлупу. Если не считать моих братьев и наставников, он – первый мужчина, рядом с которым я оказываюсь в такой близости, и я чувствую, как колотится мое сердце. Хорошо, что хотя бы сидя я меньше похожа на жирафа. Впрочем, он этого, похоже, не замечает. Он смотрит на меня – и в то же время как будто сквозь меня. Свет разливается над моим помостом, грифель непрерывно скребет о бумагу; каждая линия точна и взвешенна – плод счастливого союза глаза и руки. Эта будто звенящая тишина мне хорошо знакома. Я вспоминаю все те бесконечные часы, что я сама проводила в такой же прицельной сосредоточенности, зажав в пальцах заточенный кусочек угля и пытаясь нарисовать голову собаки, спящей на лестнице, или передать причудливое уродство моей собственной голой ступни, и это придает мне терпения.
– Матушка говорит, у вас была лихорадка? – наконец спрашиваю я, как будто мы – родственники, которые болтают уже битый час и только сейчас ненадолго умолкли. Когда становится ясно, что отвечать он не собирается, меня так и тянет упомянуть о его ночных прогулках, но я не могу придумать, как об этом заговорить. Грифель продолжает поскрипывать. Я снова упираюсь взглядом в стену часовни. Повисает такая тишина, что кажется, будто мы просидим здесь до скончания времен. Впрочем, в конце концов проснется Лодовика, и тогда будет слишком поздно…
Читать дальше