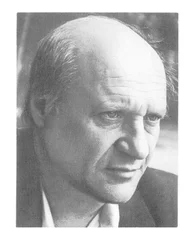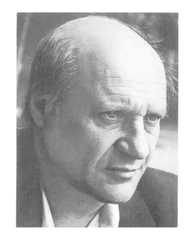В эту ночь все мы, врачи и служители, сбились с ног. К утру тучи рассеялись, так и не пролив дождя. Першило в горле, и что-то ловил, ловил напряженный слух. Не сразу я догадался: петухи не пели в Колмове.
Потекли недели беспросветные. Глеб Иванович не выходил из палаты. Но едва березы тронуло желтизною, мелькнула мне последняя надежда, я примету вспомнил. Не могу сказать, в чем была она, эта надежда, а только попросил я Глеба Ивановича определить, какая на тот год грядет весна – ранняя иль поздняя. Губы его шевельнулись неумело, с трудом: «Весной…» – и больше ни звука.
Весной он умер, в марте девятьсот второго. Умер не в Колмове: Александра Васильевна почему-то сочла за благо переместить его в Ново-Знаменскую больницу близ Петербурга. О кончине Глеба Ивановича она известила меня телеграммой.
Провожала его огромная масса народа, провожала своего писателя – ни единой мундирной фигуры, никого из департаментов. Пел студенческий хор, но, казалось, текла процессия в безмолвии, как текут глубокие воды.
Со святыми упокой? Да, так – со святыми.
Колмово, 1902–1903
Москва, 1986–1987
Приложение
ИЗ ЗАПИСОК Н.Н.УСОЛЬЦЕВА О НОВОЙ МОСКВЕ 3
Сочинения я писал гимназистом, давно. В словесности, как, впрочем, и в остальном, отнюдь не блистал. Но теперь у меня совсем иная, не гимназическая забота. Дело-то вот какое. Я хочу рассказать о событиях уже минувших. Стало быть, я эти события вижу и понимаю не совсем так, а то и совсем не так, как прежде, то есть когда они совершались. Отсюда трудность в соблюдении, так сказать, линии, пропорции. Не уверен, сумею ли, однако приступаю.
Поздней осенью, в хмурый день мы отчалили из Одессы. Все стояли на палубе, сняв шапки и крестясь. Город, берег, Россия отдалялись; моря было все больше. Я взглянул на вольных казаков, объятых какой-то внезапной сумрачной тревогой. В ту минуту я испытал (помню это очень хорошо) чувство непонятной виновности перед этими людьми.
Н.И.Ашинов тоже был на палубе. Его огромная фигура, борода, разворошенная ветром, его военная стать – все в нем выражало спокойную, твердую уверенность. Но странно: еще вчера именно эти спокойствие и уверенность представлялись мне совершенно необходимыми человеку, стоявшему во главе нашего предприятия, а сейчас, на палубе парохода, сейчас, когда мы уже плыли в открытом море… Ведь должен же он, думалось мне, должен ведь ощущать свою грозную, свою необыкновенную ответственность?
Конечно, Н.И.Ашинов, как и Михаил Пансофьевич Федоровский, как и я, Усольцев, конечно, все мы верили, что русскому народу под силу такое, что ни одному народу на свете не под силу. Это так. Но человек-то, по имени Николай Иванович Ашинов, именно он, этот человек, был нашим Моисеем, был «в ответе» если не перед судом истории (хотя почему бы и не перед ним?), то уж, по крайней мере, перед судом собственной совести. Так откуда же у него это спокойствие, эта уверенность? Что он такое, этот человек, бестрепетно решившийся «понести грех на себе»?
Тут у меня и выскакивает первое отступление от «пропорций», ибо не тогда, а много позже сознал наличие как бы двух типов или двух разрядов человеческих особей. Есть такие, что прежде всего и раньше всего думают о правах, которые им сулят обязанности. А есть другие, есть те, что прежде и раньше всего думают об обязанностях, которые на них налагают права.
Возвращаюсь на наш пароход.
Вольные казаки, стряхнув оцепенение и надев шапки, располагались. Началась распаковка скарба; у судовых бачков с кипятком загремели, как на станциях железных дорог, медные чайники; послышались говор, незлобная перебранка, даже смех.
Вскоре, однако, сказалась качка. Голоса утихли, лица сделались бледными, глаза мутными, равнодушными, казалось бы, ко всему на свете, хоть тут тони, хоть гори, все равно. Стали обращаться ко мне за помощью. Я знаю, репутация медика определяется первыми шагами его практики, да ведь от морской болезни не избавишь, ею перемогаются, и только…
Приехали в Константинополь. Власти, к сожалению, не разрешили нам посетить город, никому не разрешили, кроме С. И. Ашиновой, уж и не знаю, чем это она так угодила туркам.
(Софья Ивановна, жена нашего предводителя, слишком многое для меня значила в жизни, чтобы я доверился бумаге. Скажу только, что она была не то чтобы красавицей, нет, она была чрезвычайно привлекательна каким-то удивительным, редкостным соединением мягкости и энергии. Она музицировала, следила за литературой, свободно изъяснялась по-французски и итальянски.)
Читать дальше