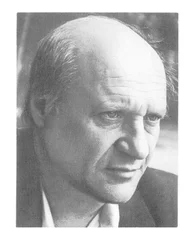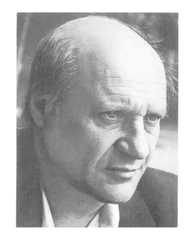Я ожидал продолжения, каких-то объяснений ждал, иначе дичь выходила, Глеб же Ив. внезапно наклонился к полковнику Шванку: «Послушайте, а не явить ли и вам милость? Пусть и под угрозой прослыть антихристом». Полковник Шванк пенсне снял и вперился в Глеба Ив. голубыми, навыкате глазами. «То есть как это? В каком же смысле?»
А я уже успел сообразить, в каком таком смысле. Ну, конечно, Глеб Ив. сказал о солдатах, содержащихся на гауптвахте. Полковник Шванк хмыкнул и надел пенсне. Нет, сказал полковник, у него нет никакой возможности попасть в антихристы. Даже и пожелай он похерить дело, поручик Крюков, заседающий в полковом суде, большой, доложу вам, ябедник, тотчас настрочит вышестоящему начальству. Шванк призадумался, пощелкивая пальцами. «Вот ежели бы доктор-то Педашенко признал всех троих умалишенными, тогда бы…» – «Тогда бы, – перебил Глеб Ив.,– к нам, туда, в Колмово. Очень подходящее место для тех, кого совесть замучила». Вот это последнее произнес он так, что сердце мое болью сжалось.
Я почувствовал себя виноватым и, сознавая себя ни в чем не виноватым, наступил на любимую мозоль полковника: дескать, так и делал Аракчеев. «Что такое? – воскликнул Шванк. – Еще поклеп на графа Алексея Андреевича?!» Никаких поклепов, отрезал я резко, никаких поклепов. Он, бывало, спроваживал неугодных людей прямиком в долгауз, в каталажку для сумасшедших, а в бумаге указывал нечто невразумительное и отвратительное: «Заслуживает особой важности, содержать впредь до распоряжения».
«Враки!» – брякнул полковник Шванк. Он осклабился, его крепкие желтые зубы изготовились перекусить мне горло.
Но теперь, когда наше предстательство за солдат потерпело фиаско, теперь уж нечего было щадить полковника Шванка, и Глеб Ив. очень негромко и вместе с тем ядовито заметил следующее: вы, г-н Шванк, не пожалели времени ни на Шильдера, ни на «Русскую старину», ни на Богословского, автора «Аракчеевщины», а мы с ним, с Николаем-то Гавриловичем, и в Грузино ездили, и в Селищах бывали, тоже, как вам известно, аракчеевское заведение, да, ни времени не пожалели, ни чернил, ни туши, а слона-то и не приметили. Слона! А знаете ли, почему ваш обожаемый граф и вправду был антихристом, почему вашего обожаемого графа мужики принимали за антихриста?.. Тугая, сизо-обритая кожа на круглой голове полковника будто рябью подернулась, так он набычился… А потому, продолжал Глеб Ив., все чаще и резче подергивая бороду, а потому, что он вломился в хлев, в поле, в овин, везде и всюду, в самые недра земледельческого творчества да и порушил направо-налево поэзию крестьянского труда.
На одутловатой физиономии полковника Шванка отобразилось изумление. «Творчество! Поэзия!» – повторил он, дрожа скулами. И разразился хохотом, пристукивая кулаком о кулак, притопывая ногой. Но едва ударили напольные часы, умолк и замер, приложив ладонь к своей большой, оттопыренной ушной раковине. Старинные часы, принадлежавшие Аракчееву, отбивали удар за ударом. Полковник Шванк поднял перст указующий. «Вы думаете, – произнес он загадочно и грозно, – вы думаете, они удлиняют время, отделяющее нас от графа Алексея Андреевича. О-о, ошибаетесь, ошибаетесь, господа! Они приближают нас к исполнению его предначертаний «от финских хладных скал» и так далее. Приближают! Иного Россия не вместит, и в этом ее будущее благо».
Всякий раз, встретив в усольцевской тетради какое-либо собственное имя, делаешь стойку. Ну, не все ль равно, кто говорил то, что говорили капитан Дьяков или полковник Шванк? Суть важна, мысли. Но нет, натура требует документальных разысканий. И посему свидетельствую: полком действительно командовал полковник Шванк, а батальоном – капитан Дьяков; полковым доктором действительно был Педашенко, а делопроизводителем полкового суда – поручик Крюков. Но чего нет в «Памятных книжках» Новгородской губернии, так нет – ни строчки о летних ночах, лунных и теплых, когда под липами Муравьев прогуливались император китайский и вице-император всероссийский.
Не отрицаю саму по себе возможность прогулок: кто же не знает, что портреты, если только они исполнены в реалистической манере, выходят из рам и совершают поступки. Однако вопрос: а на каком, собственно, языке китаец Юй говорил с Аракчеевым? Ведь первый-то жил за тыщу лет до крещения Руси и, увы, не мог владеть русским языком, а второй, насколько известно, и не пытался овладеть китайским.
А вот, представьте, прогуливались они и беседовали, не обращая внимания на Глеба Успенского. В конце концов, экая малость – сочинитель. Да и он не делал ни малейшей попытки привлечь к себе внимание. После бесплодных мучений отошедшего дня – он один, доктор спит в соседнем покое, не надо ни о чем говорить, а потому можно слушать, о чем толкуют эти двое там, во дворе, освещенном луной и расчерченном черными тенями вековых лип.
Читать дальше