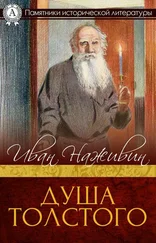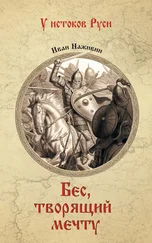«Паралос» соколом налетел на среднюю триеру, и Алкивиад с берега видел, как с сухим треском накренилась пораженная насмерть триера, как на мачте «Паралоса» вспыхнуло вдруг пурпурное знамя — Алкивиад понял, что этим Бикт хочет обмануть спартанцев, давая понять, что на судне командует сам страшный для них Алкивиад, — и как два остальных спартанских корабля враз ударили на смельчаков, и как Конон повернул свои корабли, чтобы выручить «Паралоса». Из-за расстояния Алкивиад не видал, как одним из первых упал за борт Антикл: неприятельская стрела угодила ему прямо в глаз. Еще несколько мгновений и «Паралос» был бы взят, но Конон сильным ударом опрокинул спартанцев и отобрал у них «Паралос». А к устью Эгоспотамоса и смотреть было жутко: спартанцы взяли без боя сто шестьдесят афинских триер и три тысячи пленников. Все они были доставлены в стан ликующих победителей и, в ответ на все жестокости афинян, казнены. Все. Сразу.
И этим страшным раскатом грома из ясного неба война персидского золота и спартанской воинской доблести против золота и жажды золота еще и еще со стороны свободнейшей из республик была кончена. Осталось подвести итоги. За этим дело не стало.
Конон, понимая, что с Афинами кончено, поехал прямо на Крит, тихо умиравший среди своих древних развалин в стороне от всего. С пути он отправил в Пирей «Паралос» со страшной вестью. «Паралос» прибыл в гавань уже затемно, и Афины не спали всю ночь. Они понимали, что теперь их самих ждет та страшная судьба, которую они столько раз обрушивали на других: перережут все мужское население, способное носить оружие, а женщин и детей продадут в рабство. Уже одно это заставляло их сопротивляться до последней капли крови. Во главе всеобщего ополчения стал Евкрат, брат незадачливого Никия, погибшего в Сиракузах.
Павзаний, царь спартанский, поднял армии всех союзников, за исключением Аргоса. Агий двинулся на Афины из Декелеи долиной Кефиссоса, а с моря шел Лизандр на ста пятидесяти судах, гоня перед собой переполненные корабли с перепуганными, голодными афинскими колонистами, которые были разбросаны по всем островам и для которых теперь у Афин не было прежде всего хлеба. Вокруг Афин замкнулось железное кольцо. Страшный голод косил обезумевшее население. Но Афины надеялись на чудо и в храмах неустанно приносили жертвы богам, а в особенности той Афине Промахос, которая должна была бы сражаться за свой город в первых рядах…
Но — голод нарастал. Нарастал ужас. Собачка Аспазии сдохла от голода, и старуха с седыми волосами, с трясущейся головой сидела у потухшего огня и все что-то шептала, шептала, шептала. Умерла Гиппарета. Умер Андрогин. Афины послали Ферамена в Спарту для переговоров: если им оставят их земли и стены, они присоединятся к пелопоннесскому союзу. Эфоры не захотели даже и обсуждать это предложение. Тех, которые советовали народу сдачу без условий, афиняне бросали в тюрьмы. Клеофон, которому грозила гибель и демократии, и своя собственная, кричал на Пниксе, что он своими руками заколет всякого, кто будет выступать с подобными предложениями. Но холодные головы работали, и вскоре послом в Спарту отправился Тераменес. Его продержали там три месяца. Голод и смерть царили в когда-то бойком и веселом городе. Граждане его заключили было что-то вроде священного единения, но оно разваливалось. Усиливались споры. Олигархи подняли головы. Клеофон попробовал было бороться с ними, изменниками, но был убит.
Тераменес привез условия еще более жестокие: разоружения Пирея, срытие стен, уступка всех городов, сдача всех триер, кроме тех двенадцати, которые увел Конон и прочее. На конференции союзников Спарты против этих условий резко возражали фивяне, коринфяне и многие другие, которые требовали просто уничтожения всего афинского населения — вот до чего насолила всем демократия! Этим требованиям воспротивилась прежде всего Спарта: нельзя поступать так с Афинами, которые во время персидских войн столько сделали для Эллады, пусть Афины платят дань, но управляются пусть так, как сами того хотят. Военное же господство переходит, понятно, к Спарте, и Афины дают ей воинов…
Обезумевшее от голода и ужаса население Афин было радо и этим условиям — хотя некоторая оппозиция и была — и в 16 день месяца Мунихия Лизандр вошел со своими триерами в гавань Пирея, изгнанники Афин вернулись домой и с огромным энтузиазмом, под музыку веселых девиц-флейтисток, все восторженно взялись за ломку стен. И было софистами, которые подыгрывали не хуже флейтисток, объявлено во всеобщее сведение, что отныне Эллада становится свободною — как было это объявлено так недавно после поражения Афин в гавани Сиракуз. Правда, тогда с этой самой свободой ничего что-то не вышло, но теперь можно было надеяться, что выйдет уже непременно…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
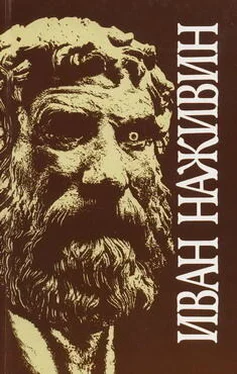
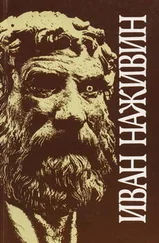
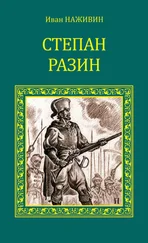
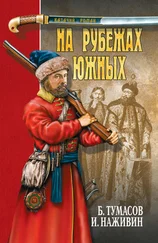
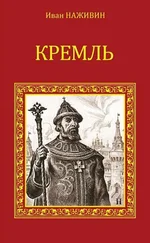
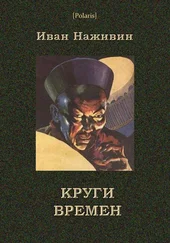
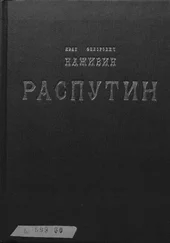
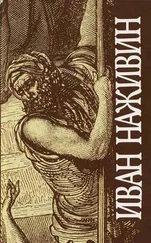
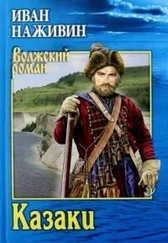
![Иван Наживин - Глаголют стяги [litres]](/books/416283/ivan-nazhivin-glagolyut-styagi-litres-thumb.webp)