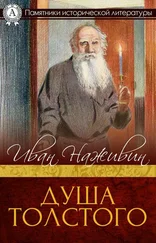Дело, однако, продолжалось и без Алкивиада: спартанцы разбили афинян и загнали их в гавань Лесбоса, а сами понеслись навстречу афинской эскадре, которая успела своим на помощь в числе целых 150 вымпелов. И вспыхнула величайшая морская битва, которая когда-либо была между греками при Аргенусских островах, разбросанных между Лесбосом и материком. Спартанцы были разбиты наголову, но победоносные навархи были тотчас же отданы демократией под суд: так как погода в день битвы была бурная, они посмели не подобрать тела убитых в море и не предали их погребению. Это было величайшее преступление: тени этих мертвецов будут теперь блуждать целый век по берегам Стикса, не зная покоя.
Сейчас же был назначен над преступными навархами суд. Двое из них бежали, а остальные предстали пред судом. Те, которые целились на их место, подняли в народе невероятную бучу, которую из всех сил поддерживали родственники погибших и непогребенных воинов. В самый трагический момент суда эпистатом, то есть председателем притании, был Сократ. Он находил суд совершенно бессмысленным и, несмотря на злые крики толпы, делал все, чтобы не допустить осуждения победителей, а когда ему это не удалось, он сложил с себя звание председателя и при другом эпистате, его преемнике, все подсудимые были присуждены к смертной казни! Английский историк, рассказывая об этом злодеянии демократии, говорит, что главная вина навархов была в том, что их было восемь там, где нужно было одного. Это очень справедливо, но, если бы дело повернулось иначе, то столь же справедливо историки стали бы искать вину в том, что навархов было всего восемь, а не восемнадцать, а о главном виновнике — толпе, глупости — они замолчали бы все же, ибо это — Демократия, то есть очень хорошая вещь, как они уже решили раньше.
Глаза старой Аспазии широко раскрылись. Она задыхалась.
— Как? Моего Периклеса приговорили к смертной казни?!. За такую победу?!. Но… но…
И она повалилась без чувств. Это было последнее, что ей еще оставалось в жизни. Теперь все, что у нее было, это собачка, которая ее очень любила и с которой она, сидя у жаровни с тихо тлеющими углями — она все зябла — она тихонько разговаривала о чем-то целыми часами и нежно гладила ее шелковистую шерсть. И собачка смотрела ей в лицо ласковыми, грустными глазами.
Впрочем, демократия скоро раскаялась в своем поспешном жесте с навархами и казнила тех, которые ее на эту казнь подбили, так что справедливость была восстановлена и бессмертные боги были, вероятно, удовлетворены.
Тяжело ударили Аргенузы и по семье каменотеса Андрогина, друга Сократа: его сын, Андроклес, был привезен домой без ног, которые он потерял в битве, попав в горячей схватке между двух столкнувшихся триер…
Несмотря на все усилия людей, хорошее, прочное, спокойное, верное, на что они упорно надеялись, не приходило никак. Совсем наоборот: пройдя на войне великолепную школу жестокости, обмана, грабежа, вероломства, насильничества, эти люди возвращались домой самыми отменными ворами и убийцами. Положение демократии становилось настолько непрочным, что вожаки ее потребовали от всех граждан клятвы в верности демократии: «Если кто-нибудь уничтожит демократию в Афинах — гласил закон 409 года — или же займет какую-либо должность после ниспровержения демократии, такой человек будет считаться врагом афинян и может быть убит безнаказанно, имущество его переходит в собственность государства за исключением десятой доли, которая отходит Афине Палладе. Убийцы такого человека считаются чистыми и незапятнанными и не отвечают перед законом. Все афиняне должны принести клятву убить такого человека» [32].
После всяких реформ, ререформ и реререформ в делах царила невероятная путаница, обилие законов, древних и потерявших всякий смысл, и новых, которых никто еще путем не знал, сбивало с толку всех. Суд целиком зависел от капризов демоса, а демос от всякого бесстыжего прохвоста. Кучка заядлых политиканов и сикофантов вертела всеми и всем, ссылала, конфисковала, брала взятки, запугивала, казнила. Еврипид и Фарсагор — он все брезгливо морщился — уехали ко двору Архелая Македонского. Софокл и Аристофан остались, но жили с оглядкой. Молодой Платон, почти не покидавший Сократа, отметил себе, что среди народа афинского осталось «только число малое честных последователей мудрости». Потом он говорил, что немногие честные люди эти были подобны людям, попавшим среди диких зверей: человек не хочет быть с ними, но у него нет сил восстать против них и, прежде чем он успеет сделать что-нибудь доброе для общества или своих друзей, его задавят. «И когда эти лучшие люди, — говорил Платон, — поразмыслят об этом, они замолкают и уходят в свои личные дела, как во время бури человек прячется за стену». Он, по совету Сократа, бросил в огонь свою пьесу, которая была уже принята к постановке в театре Диониса, а теперь все более и более задумывался над тем, не уйти ли ему от общественной деятельности совсем, хотя ему как состоятельному и знатному молодому человеку блестящая карьера на этом поприще была обеспечена — до тех пор, понятно, пока демосу не вздумается снять с него голову или, по меньшей мере, выбросить за дверь… Раздумывая над всеми делами этими в тиши своего острова, Дорион раз сказал своему новому другу Диагорасу, Атеисту:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
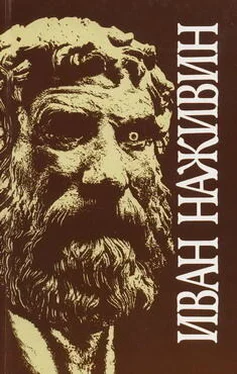
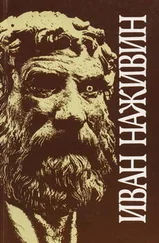
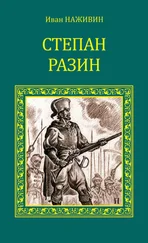
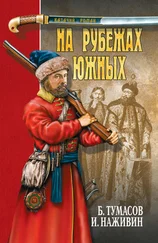
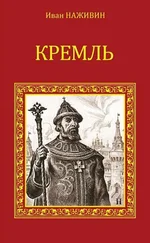
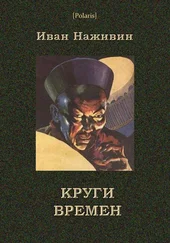

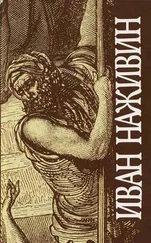

![Иван Наживин - Глаголют стяги [litres]](/books/416283/ivan-nazhivin-glagolyut-styagi-litres-thumb.webp)