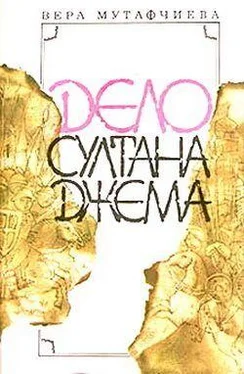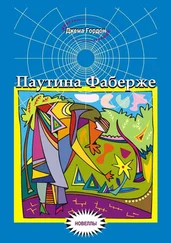К моему господину, шехзаде Джему, в полной мере эти слова отнести нельзя: Джем казался юнее, чем все мы, его сверстники. Во время наших ночных пирушек, с легкостью перепивая всех, Джем любил говорить, что всегда будет моложе своих лет и моложе нас, что он всех переживет, ибо в его жилах течет не только турецкая кровь. Джем и впрямь был наполовину серб, причем по материнской линии. Сдается мне, что чужой крови у Джема было гораздо больше, чем нашей. Он очень мало походил на своего отца, Великого Завоевателя. Быть может, только орлиным изгибом носа и толстой, выступающей вперед нижней губой. Во всем остальном он был совсем иным.
Джем был высок – у турок это встречается нечасто. Рослый, плечистый, узкий в поясе и бедрах, гибкий, ловкий – в те, караманские дни нашей жизни Джем напоминал мне необъезженного скакуна.
Необычным было и лицо его – светлокожее, цвета пшеницы, как у нас говорят. Рыжие, в крутых завитках волосы, обрамлявшие лицо нашего почившего султана, у его сына сменились золотистыми и гладкими. Как все правоверные, мой господин ходил покрыв голову, но я, самый близкий ему человек на протяжении почти двух десятилетий, нередко видел его с непокрытой головой, и признаюсь, что не случалось моему взору наслаждаться картиной более прекрасной, чем та, какую являл собой Джем с его длинными шелковистыми волосами, четкими очертаниями не очень высокого лба, с тонким изгибом более темных, чем волосы, сросшихся бровей. Глаза описывать не стану – казалось, утренняя заря плещется в быстротекущих водах, вот какими были глаза Джема.
Понимаю, для вас это непостижимо. В ваших стихах и песнях утомительно воспевается женская прелесть – будто вся краса земли воплощена в женщине. Как вы слепы! Что может более радовать взор, чем мужчина – юный, еще не огрубелый, стройный, звенящий, как натянутая тетива, для которого каждое движение – радость, для чьей упругой поступи словно бы создана земля?
У вас это восхищение почитается нездоровым и постыдным, потому что вы вкладываете в него один лишь плотский смысл. Тут уж я в свою очередь не понимаю вас, ведь мы принадлежим к разным мирам. В нашем мире женщина была даже не кем-то, а чем-то, мы связывали себя с ней единственным и весьма несложным образом, без выбора, поисков, предпочтений. Мы покупали своих жен, даже не видя их в лицо. Иногда нам везло – тогда этот союз бывал терпим. Гораздо чаще удача изменяла. Однако, поверьте, мы заслуживали сострадания и в том и в другом случае – не переоценивайте преимуществ мусульманской семьи. И в том и в другом случае мы жили рядом с некой навязанной нам, незнакомой и нежеланной вещью. Эта вещь производила на свет детей, что в какой-то мере оправдывало потерянные возле нее ночи; она молчала, что делало отчужденность выносимой. И тем не менее отчужденность оставалась – огромная, неодолимая, полная неприязни и обиды.
Большинство из нас – те, кто ничего не могли дать и не жаждали ничего получать, – мирились с этим. В те времена мы были страною воинов. Для воина не существует такого понятия, как домашний очаг: ему не нужно делиться мыслями, чувствами; а победами – что ж, победу отлично делишь с соседом по шатру; после битвы, бешеной скачки, охоты не остается излишних душевных порывов. Войско бойцов-дервишей растекалось по Европе. Во время коротких роздыхов между сражениями они насиловали женщин, а женились лишь после того, как султан распускал войско – тогда они покупали себе жен.
Вы, наверно, заметили, я говорю – они, а не мы; мы – те, кто составлял двор Джема, – не были воинами, хотя победоносное наше войско боготворило Джема. Мы были певцами. Нам была неведома блаженная усталость после битвы, зато мы знали иные волнения – радость или печаль. Мы старались передать их кому-то другому, чтобы они возвратились к нам – более глубокими, обогащенными – и затем излились в стихах.
Этот другой не мог быть женщиной. Наши женщина были отталкивающе уступчивы, всегда и во всем с нами согласны. Отвращение, вызываемое доступностью, отдаляло нас от них, возвращало к себе подобным! Вы находите это противоестественным, но нам приходилось выбирать из двух противоестественных крайностей: одиночеством мужского начала и одиночеством духа. А ведь мы были поэтами и наш дух в одиночестве заледенел бы – поэтому мы предпочли первое.
Простите, что ввергаю вас в рассуждения, звучащие непристойно для вас и вашего времени. Но вы ведь рассчитываете на меня – первого, самого близкого, самого верного друга Джема. Иначе на моем месте оказалась бы его жена или возлюбленная – только любовь дает возможность чувствовать чувствами другого человека, страдать его страданиями, мыслить самыми сокровенными его мыслями. Да не будет оскорблен слух ваш: такую любовь испытывал к Джему только я один. И поэтому знал Джема лучше, чем он сам себя знал.
Читать дальше