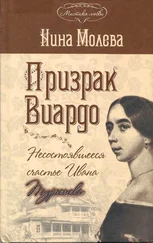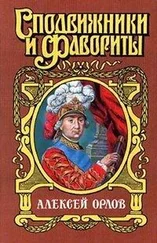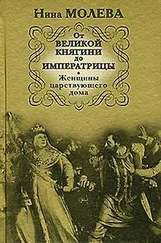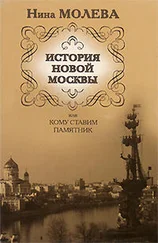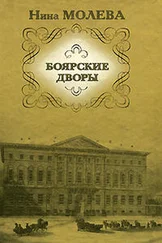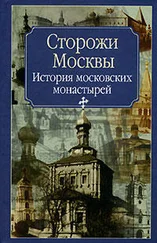– Государыня, ты-то не забыла, ты-то, коли сама знаешь, смилостивься!
– Смилостивиться? За свои муки других жалеть, на других разжалобиться? Вы мне вот как, колесом через всю жизнь прошли, а я – незлобивая, я – отходчивая, зла не помню, добра никому не пожалею? Врешь, принцесса, врешь! Нет среди баб таких добреньких, и не ищи!
– Так ведь я, государыня, не против воли твоей. И замуж, коли велишь, пойду, мне бы не этот только.
– Тот – не тот: одна цена. Всем им к престолу бы подобраться, а свое кобелиное дело они и без супруги законной справят, не утрудят тебя, девка, не бойсь! Свое отбудешь, наследника родишь, и сама себе хозяйка – правительница! Мне бы такое!
– Да не надо мне ничего, государыня! Я бы дома… одна… век вековала… за тебя бы Бога молила…
– Лучше, говоришь? А где он, дом-то твой, принцесса высоко рожденная да не высоко ставленная, где?
– Хоть в Измайлове. Без выезду. Пусть там тесно, неустроено…
– В Измайлове? Это там-то, где для герцогини Курляндской места не было? Куда отдохнуть просилась, чтоб приветили, обиходили, по-людски обошлись, ан нет, герцогине Мекленбургской Катерине Иоанновне с дочкой-принцессой и без того тесно, где уж тут ради попрошайки курляндской потесниться!
– Там и впрямь теснота была, государыня. Мы с матушкой на постели вдвоем, а фрейлины на полу, на войлоках, вповалку. И у тетеньки Прасковьи через спальню проходили. И у бабиньки-царицы танцевали – она с постели глядела, – как ассамблеи собирались.
– Ассамблеи собирались! Танцевали до полуночи! Что ж не спросишь, каково тетка твоя в Митаве царствовала, в какой горенке ютилась, не то что ассамблей не знала, не ведала, что на другой день на стол ставить, какие башмаки надеть: старые поизносились, на новые денег взять неоткуда. Башмачник последний и тот в долг не верил: чем отдавать будешь? Подачками, слышь ты, я – родная внучка великого государя Алексея Михайловича – подачками от блаженной памяти величества из-под солдатской телеги Екатерины I жила. Что по милости своей пришлет, то и ладно, на том и спасибо. Да еще письма пиши, благодари, кланяйся, о здоровьечке драгоценном справляйся, каково оно после обозных телег – не надорвалось ли, не беспокоит.
– Ничего мне не надо… я б обноски… в Измайлово бы мне…
– Не будет тебе Измайлова, не будет. Сама жить в нем стану, коли охота придет! Сама во всех горницах, где войлока тухлого мне на полу не нашлось! И рож постных видеть там не желаю, а твою меньше всех. Молчальница, смиренница, а вишь как за себя вступилась! С кем говорить осмелилась, Анна свет Леопольдовна? С самодержицей Всероссийской? Вон, подлая, чтоб духу твоего здесь не было, вон!
…Матвеев подает прошение в Канцелярию от строений. Огромное колесо бюрократической машины медленно, нехотя приходит в движение. Нужны „пробы трудов“, нужны отзывы, много отзывов, отовсюду и ото всех. Наконец он получает право на самостоятельную работу. Но все это требует времени, усилий, обрекает на горькую нужду. Заслуженное за прожитые в Голландии годы жалованье остается невыплаченным. Канцелярия от строений не спешит с назначением оклада. Матвеев безнадежно повторяет в прошениях, что у него нет средств ни на поизносившуюся одежду, ни на еду.
Никаких работ, кроме заказных, художники тех лет не знали, и трудно себе представить, чтобы Матвеев, да еще при полном безденежье, решился начать картину с себя – непозволительная, ничем не оправданная роскошь. Что ж, в документах об автопортрете действительно не было ни слова.
…Отступившее глубоко в амбразуру окно архивного хранения казалось совсем маленьким, ненастоящим. На встававшей перед ним стене былого Синода солнечные блики сбивчиво и непонятно чертили свои очень спешные сигналы. Временами наступала глуховатая городская тишина с дробным эхом далеких шагов. А страницы переворачивались медленно, словно налитые свинцом прошедших лет.
К Матвееву почти сразу приходит руководство всеми живописными работами, которые вела Канцелярия. Талант и мастерство делают свое. Но это ежедневный шестнадцатичасовой труд, без отдыха, с постоянным недовольством начальства, штрафами, выговорами, страхом увольнения.
Работы для Летнего дворца – того самого, на берегу Невы, за четким и неощутимым рисунком решетки Летнего сада. Картины для Петропавловского собора – они и сейчас стоят над высоким внутренним его карнизом „гзымсом“ в непроницаемой тени свода.
Еще один документ. В январе 1730 года, чтобы приобрести хоть видимость независимости, Матвеев просит о звании живописных дел мастера – до сих пор он получал тот же оклад, что и в ученические годы в Голландии, то есть двести рублей в год.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу