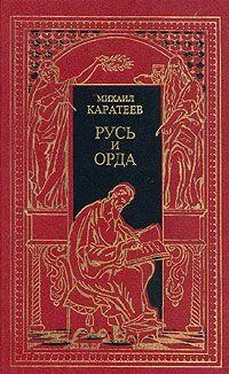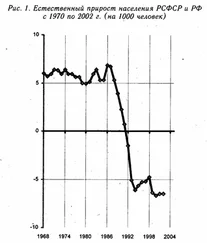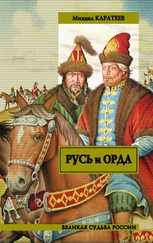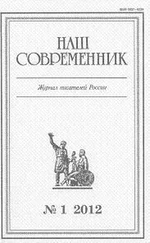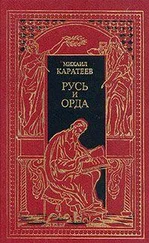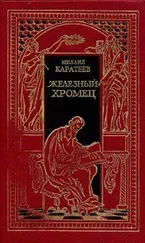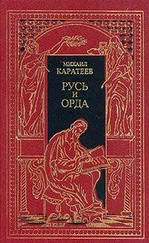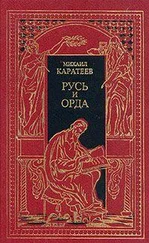Обычные представления об отсталости древнерусской культур неверны. До завоевания Руси татаро-монголами ни о какой отсталости говорить не приходится. Напротив, Русь этого времени, самым тесным образом связанная с самой передовой страной тогдашней Европы – Византией, опережала своим развитием многие из европейских страны. Она обладала высоко развитой письменностью, литературой, зодчеством, живописью; в ней процветали ремесла и торговли. Она была грозным государством с обширными международными связям и гордым патриотическим самосознанием.
Академик Д. С. Лихачев(Культура русского народа X – XVII вв.)
Владыка Алексей чуждался роскоши и был далек от стремления к тем пышности и блеску, которыми любили окружать себя западноевропейские иерархи его ранга. Но не было в нем и показного аскетизма. В соответствии с этим его покои в Чудовом монастыре были обставлены скромно, но удобно и даже уютно. Здесь не было ничего, что служило бы тщеславию или праздности, но зато было все, что необходимо для повседневного обихода, труда и отдыха человека, стремящегося не к бессмысленному и никому ненужному умерщвлению плоти, а к тому, чтобы как можно лучше и дольше послужить родной земле, православной Церкви и своему народу.
Были поздние сумерки. В рабочей келье митрополита пахло сосновой смолой я воском, где-то в углу неназойливо, но без опаски распевал сверчок. У божницы теплилась лампада,– на вид беспомощный огонек ее стойко боролся со сгущающимся мраком, не давая ему затмить священные лики. Алексей давно отложил перо и теперь неподвижно сидел, откинувшись в кресле, у широкого, заваленного рукописями стола. В этот переходный час,– когда день уже отошел, но еще не зажигали свечей,– он любил посидеть спокойно, в раздумьях, и дать отдых устающим глазам. Последние месяцы он напряженно работал над своей «Книгой поучений», которую задумал написать как руководство для низших церковных иерархов, в большинстве своем пребывавших тогда в недопустимой для священнослужителя косности.
«Помыслить тяжко,– думал святитель,– сколь далеко откинуло нас басурманское иго назад, во тьму невежества, и сколь мало ныне осталось на Руси пищи для душеполезного чтения! А ведь до нашествия поганых и в грамоте и в книгочействе, да в искусных умениях были мы впереди почти всех иных народов.
Почитай, с полтыщи городов и городков стояло тогда на Руси, и не зря же урмане да свей издревле называли нашу землю Гардарией: то им было в великую диковину, поелику своих городов не имели они в ту пору и трех десятков. Когда шли на нас татары, монастырей на Руси было два ста с половиною, а церквей и не счесть!
*Из трудов св. Алексея до нас дошли: «Прибавления к творениям святых отцов», «Книга поучений», «Душеполезные чтения», замечательный своей точностью перевод с греческого Евангелия и некоторые иные переводы и грамоты.
**Франкский ученый нонах Теофил, живший в XII в., в своем сочинении «Divrsarum artium shedula» (трактат и развития различных отраслей искусства и ремесла) в области культуры ставит Русь на второе место непосредственно после наиболее передовой тогда Византии и выше всех других европейских стран.
***Урманами назывались тогда норвежцы, свеями – шведы.
****Древние скандинавы называли Русь «Гардарик», что значит «Страна городов».
В одном Киеве стояло их мало не шесть сот, да в Великом Новгороде два ста, либо близко того… Ежели для всех прочих городов исчислить на круг по четыре церкви,– вот еще две тыщи. Да в книгах митрополичьих сыскал я без малого шесть тысяч сел, такоже имевших по одному храму. Не менее двух тысяч было, сверх того, княжеских да боярских домовых церквей – крестовых палат. Стало быть, вкупе набиралось у нас свыше одиннадцати тысяч православных храмов, рассадников грамоты.
Одним лишь тем храмам, для обихода своего и совершения положенных треб, надобно было иметь более ста тысяч богослужебных книг. И в каждом монастыре, а такоже при многих городских церквах, были свои книжные списатели, кои трудились над переводами и размножением своих и из иных земель привезенных книг. Радели они не токмо о духовном, но такоже и о мирском, поучительном и разум возвышающем чтении. Всякий книголюб,– а было их на Руси немало,– знал, где и что заказать возможно. И писец, за месяц либо за два, списывал ему с великим тщанием и красою любую книгу, взымая за труд свой не более гривны серебром, а чаще – гривну либо две гривны кунами.
Читать дальше