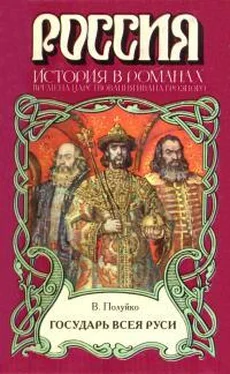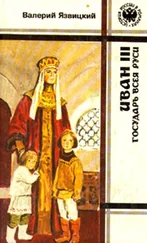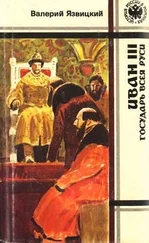— То уж точно, государь, — изменит, как есть изменит! — в тон Ивану сказал Зайцев, слушавший его с тем особым вниманием, с каким обычно выслушивают приказание. — Куда дерево подрублено, туда оно и валится!
Иван и глазом не повёл на него, будто не услышал сказанного, только голос его стал ещё торжественней и проникновенней:
— Скупой и немилостивый государь может скопить великое богатство и собрать легион тысяч [238]войска, но он не обрящет ни единого человека, готового не колеблясь положить себя за него. А я обрёл таковых. Разве ты не положишь души своей за меня?
— Государь! — Малюта преданным собачьим взглядом посмотрел на Ивана и ласково, благодарно улыбнулся. — С той самой поры, как ты приглядел меня, душа моя... — Нахлынувшее чувство вновь выплеснулось из него слезами, и они не дали ему договорить. Сглатывая и растирая их кулаком по лицу, он благоговейно бормотал: — Госдарь... дша моя... вся моя дша...
— Верю тебе, Малюта, верю! — с нарочитой строгостью прикрикнул на него Иван и, подождав, покуда он чуть успокоится, сказал: — А пригляди да приласкай тебя первым князь Володимер, ты бы точно так и за него положил себя.
Малюта враз перестал шморгать, растерянно наморщил лоб, пытаясь, должно быть, собраться с мыслями, и вдруг, простодушно хмыкнув, сказал:
— Кабы так, как с тобою... Ясное дело, положил бы!
— Ясное дело! — усмехнулся Иван. — Ничего оно тебе не ясное. Оно ясное мне... Да и то не совсем.
Он замолчал, задумался и невольно, в задумчивости поворотив голову, вдруг увидел стольника, давно уже стоявшего подле его стола в почтительном, напряжённом ожидании.
— Ну, а ты почто рожею выпнул? — рассеянно спросил он.
— Жду вот... — смешался стольник. — Явился сказать, да вот...
— Почто же не сказал?
— Так ве́ди... не хотел перебивать тебя, государь.
— Что?! — повернулся вместе со стулом Иван. — Не хотел? Или не смел?
— Ох, прости, государь, — в ужасе зажал себе рот стольник.
Иван засмеялся — легко, освобождённо, словно вдруг сбросил с себя какой-то невидимый и ненужный уже груз, и этот его смех, неподдельный, заливистый, сладострастный смех был так заразителен, что вслед за ним невольно, сперва потихоньку, а потом всё громче и громче начали смеяться все, и даже сам стольник, и даже слуги, для которых подобное было неслыханной вольностью.
— Славно, славно мы нынче веселимся, — изнеможённо промолвил Иван, утирая слёзы. — Давно уж не было у нас такового веселия. Потешил ты нас, Елиезер [239], изрядно потешил... И сдивовал! Сколико лет держу тебя в стольниках, а ты, оказывается, шут! Да ещё такой отменный.
— Станешь тут шутом, — вздохнул удручённо стольник. — Отбыл я совсем ума и мысли, занеже никак не могу порешить: заряжать ту пищаль иль не заряжать?
— Пищаль?! Ах, пищаль! — вспомнил Иван и сурово нахмурился. — Я сулился пальнуть в тебя... Стало быть, и пальнём! Дабы впредь разумел государевы шутки!
Дела внутренние не заслоняли дел внешних. Наоборот, чем хуже складывались внутренние, тем сильней волновали и заботили внешние, и в первую голову Литва и Крым. Они, что называется, подпирали под горло, но и побочные, второстепенные заботы тоже доставляли немало хлопот. Ещё ранней весной, вскоре после полоцкой победы, есаул царского ертаульного полка Михайло Безнин привёз из Новгорода, куда посылался сеунчем [240], весть, что в Поморье неспокойно, что каянские [241]немцы будто бы вновь ходят в Белое море и разбой великий там учиняют, людей тамошних, поморов, грабят и побивают.
Теперь весть эта подтвердилась. Игумен Соловецкого монастыря Филипп Колычев прислал царю грамоту, в коей сообщал, что вот уже который год немцы из Каннской земли приходят судовыми путями по рекам Кеми и Ковде в Белое море и грабят поморов и много иного прелютого зла чинят вотчине государевой. Прислал Филипп вместе с грамотой и роспись земель тамошних, которую запрашивал у него Посольский приказ. Искусно составил ту бумагу лукаво-мудрый чернец: не столько роспись получилась, сколько укор царю. «А сё роспись твоей государевой вотчине, — писал Филипп. — От немецкого рубежа Каннской украйны живут немецкие люди и владеют твоей государевой землёю. Государский рубеж исстари от Свитцкого [242]моря по берегу от реки Леменги в Кемь и до Шомерского камени до Торной пятьсот вёрст. А из твоей, государевой, вотчины впали в море в Свитцкое семь рек: река Сиговка, река Леменга, река Овлуя, река Ия, река Кемь Жемчужная, река Торная, река Кейнита. А исстари по тем рекам сидели русские люди, а ныне сидят все немцы, а владеют твоей государевой вотчиной по тем рекам мало не семьдесят лет».
Читать дальше