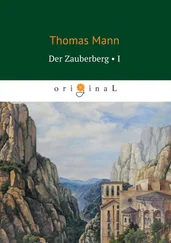Знакомое столкновение чувств, не правда ли, — это пристрастие к представительству и это неотвязное подозрение, что твое представительство чисто формально, что ты ведешь авантюристическую игру с действительностью, которую, в сущности, игнорируешь, потому что она для тебя лишь повод для игры, не больше? О ком идет речь — о вымышленном принце или о нем самом, Томасе Манне? Чтобы устоять вопреки этому столкновению, чтобы продолжить игру, нужна выдержка, дисциплина, нужно постоянное напряжение сил. И Клаус Генрих проявляет выдержку.
Ему ли, Томасу Манну, написавшему Томаса Будденброка, не знать, что в эпоху упадка одной только внутренней выдержкой, противопоставляющей себя объективным тенденциям времени, спастись нельзя, что время, в конце концов, ее сломит? Что выдержка эта тоже авантюристична? Он это знает. Он вкладывает это свое знание в гротескный образ учителя Клауса Генриха, доктора Юбербейна, который во имя абстрактного долга отказывается от любви, ведет обедненную жизнь педанта-аскета и все-таки погибает жалкой, бесславной смертью.
Но сам-то он, Томас Манн, не погиб, для него в отличие от Юбербейна, в отличие от Томаса Будденброка «особо благоприятные обстоятельства» наступили, а инстинкт художника велит ему бережно запечатлевать факты собственной биографии, придавая им сверхличное, пусть не до конца ясное самому себе, но все равно важное для всех значение. «Кто такой поэт? — писал он вскоре после выхода «Королевского высочества» и как раз по поводу этого романа. — Тот, чья жизнь — символ. Я свято верю, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество, и без этой веры я бы отказался от всякого творчества». И, рассказывая о себе, он вводит в сказку о напряженно представительствующем принце девушку, чья любовь и любовь к которой должны, так хочется автору, положить конец индивидуалистической оторванности Клауса Генриха от «дел человеческих», от реального мира, от насущных нужд его прозябающей страны.
Да, он рассказывает осебе. Эта девушка почти списана с Кати Прингсгейм. У нее «бледно-жемчужный» цвет лица, она изучает математику, принц направляет на нее в театре бинокль, ее отец, миллионер и железнодорожный магнат, коллекционирует стекло, и даже эпизод с гуттаперчей для компресса находит место в истории сближения Клауса Генриха с Иммой Шпельман. Однако рассказ его точен лишь до тех пор, покуда не наступает очередь счастливой развязки, где любовь не только «согревает душу» принца, но и превращает желаемое в действительное. Занимаясь под влиянием Иммы «по-настоящему важными вопросами», успешно добиваясь благосостояния для своих подданных, Клаус Генрих без каких-либо особых усилий избавляется от того чувства формальности, бессодержательности, лицедейской пустоты собственной жизни, которое, проявляя такую выдержку, и все же так тщетно пытался преодолеть Рауль Юбербейн.
Но избавился ли от него сам Томас Манн? Нет, этот happy end он называет в одном из писем «немножко демагогическим, немножко популярно-лживым». Сам он еще слишком аполитичен, слишком замкнут в кругу имманентных проблем своего искусства, чтобы всерьез поверить собственной декларации и обратиться к «по-настоящему важным вопросам» социального блага в поисках выхода из тупика авантюристической «выдержки». Для него этот идиллический конец не больше чем весело отданный долг благодарности своему «счастью». На социально-критическом аспекте «Королевского высочества» внимание автора заостряется только, так сказать, постфактум, после выхода романа, под влиянием некоторых сторонних его толкователей. Брат Генрих поддерживает точку зрения австрийского драматурга и эссеиста Германа Бара, усмотревшего в «Королевском высочестве» внутренний поворот автора к демократизму. «...Было бы, безусловно, ошибочно, — пишет Томас Манн Курту Мартенсу в январе 1910 года, — видеть в «К. В.» социально-критическую книгу, и то, что ты называешь в ней «альтруистическим», а мой брат и Бар «демократическим» — всего лишь один из ее аспектов. Художественная ценность ее состоит наверняка не в этом, — другое дело, возможно, ценность духовная, этическая, и не исключено, что в будущем о ней вспомнят — если вообще вспомнят — ради этого аспекта... Насколько я могу обозреть свою будущую продукцию, к демократии она не имеет ни малейшего отношения. Я сейчас собираю материал, делаю заметки, кое-что изучаю для одной давно задуманной, совсем странной работы — «Исповеди авантюриста».
Читать дальше



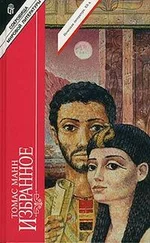





![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)