— Да что ты с ними! — не утерпел у себя в окошке Емельян. — За такой урожай руки надо отрубить!
— Пускай. Смотрите, я кладу двадцать пять. Значит, и налогу такой человек заплатит всего десять фунтов. И все! Но ведь есть у вас и такие, у кого но четыре десятины на едока. (Сам не зная почему, но глянул на Милованова и сразу понял: не ошибся, этот земли успел нахапать.) Ну вот, давай посчитаем ему. Как, может он собрать по-о… ну, скажем, по семьдесят пудов?.. Вот ему и поднесут налог — одиннадцать пудов.
Договаривая, надел фуражку и поднялся, стал застегивать ворот. Мужики сгрудились вокруг.
— А когда все будет… вся благодать-то эта? — поинтересовался Сидор Матвеич.
— Да хоть сейчас. Сегодня. А разобьем Антонова — и вообще живи не хочу. Никто мешать не будет.
У себя в боковушке Емельян слышал, что комбрига провожали гурьбой, не хотели отпускать.
— …А куда смотрите? — раздавался голос Котовского. — Весна проходит, такие дни стоят, а вы завалинку шоркаете. Земля ждет!
— Боязно. Сунься за деревню — подстрелят.
— Защиту дадим. Для того и приехали.
Напоследок, когда комбриг уже взбегал на крылечко, Милкин сказал таким тоном, будто сообщал приятную новость:
— А ведь клянут вас по деревням, Григорь Иваныч, ох клянут! Сам слыхал.
Похоже было, что комбриг с легким сердцем отмахнулся.
— А кого вы не клянете? Вы отца с матерью так пушите, что хоть иконы выноси.
И скрылся в доме.
— Заметил, Григорь Иваныч? Этот, вылупленный-то? — Емельян двумя пальцами ото лба изобразил пучеглазие. — У него сын в лесах.
— Ранен?
— Кто, Шурка? Черта ему сделается! Змеиная семейка. Рассказать тебе — не поверишь.
Оказывается, толкуя с мужиками о налоге, комбриг догадался правильно: Милованов, пользуясь тем, что прежний комбед перераспределял землю «по силе возможности», нахватал себе сверх меры, хотя семья у него известно какая: сам, да жена, да сын-баламут. Ясно, надеялся на чужие руки, на чужой горб, — самому столько не осилить.
Смеркалось. Юцевич вышел распорядиться, чтобы принесли лампу. Григорий Иванович, пользуясь роздыхом, покачивался на стуле. К вечеру накапливалась усталость, хотелось лечь, вытянуться, закрыть глаза.
В сумерках, наедине, голос Емельяна звучал негромко, задушевно. Солдат жаловался, что урожай в последнее время действительно редкий, редкий год удастся. Выручались тем, что держали коров. Куда девали молоко? А известно: на молоканку. Тот же Путятин по договору со всей деревней собирал молоко для маслозавода.
— Сколько платил?
— Платил?.. — припоминая, Емельян завел глаза под лоб. — Да, помню, копеек по сорок за пуд.
— Сколько, сколько? Да вы с ума сошли! Так он вас на самом деле заставит солому жевать. Это ж грабеж! Сколько же он наживал?
— На мужике кто не наживал? Только ленивый.
— Сами вы ленивые! — возмутился Григорий Иванович, узнав, что снятое молоко (его крестьянам отдавали обратно) спаивали скотине или же выливали прямо на землю. — В Молдавии из него сыр делают. Сыр! Ел, нет?
— Слыхать — слыхал… — почесался Емельян.
— Иди отсюда! — огорчился Котовский. — Глаза бы на вас не глядели! Посадите себе на шею и тащите, тащите…
Изобразил, как сгибается под непосильной пошей замордованный мужик (уже привык к солдату; с чужим человеком он разговаривал бы совсем не так).
— Я гляжу, Григорь Иваныч, — осклабился Емельян, — по крестьянству у тебя голова соображает. Приходилось, видать?
— Ты лучше вот что, — посоветовал Григорий Иванович, — народ на поле посылай. Сейчас они ничего не сделают — зимой ноги протянут.
Растворив ногою дверь, появился Юцевич. В одной руке он нес зажженную лампу без стекла, ладонью другой прикрывал спереди трепетное пламя. Чудовищная тень солдата вскочила во всю степу, переломилась на потолок.
Комбрига и начальника штаба ждали дела. Емельян собрался уходить.
— Я что хотел узнать, Григорь Иваныч. Раньше молоко Путятину сдавали, и он какие-никакие, а деньги платил. Теперь как будем?
— Вам что — свет клином на Путятине сошелся? Самим надо браться.
— Торговать? Да какой же из меня… На пальцах считаю — много ли наторгую.
Придвинув лампу, комбриг как будто сразу забыл о солдате.
— Учись, учись, — проговорил он, увидев, что тот все еще стоит. — Не научишься — опять в колодец сядешь. Только на этот раз, может, и не вылезешь совсем. Понял, нет? Тогда кругом — арш!
О колодце у комбрига сорвалось так, походя, но Емельян сразу сделался мрачнее тучи. Каждый раз, вспоминая свое унизительное отсиживание в ледяной воде, свое бессилие, он ощущал, как горячо, нетерпеливо начинает колотиться сердце: болела душа за товарищей, зарубленных бандитами в путятинском — вот в этом самом! — дворе. Надо же, как дети малые попались! Подумаешь сейчас — и локти бы себе с досады откусил…
Читать дальше
![Николай Кузьмин Меч и плуг [Повесть о Григории Котовском] обложка книги](/books/33365/nikolaj-kuzmin-mech-i-plug-povest-o-grigorii-kot-cover.webp)
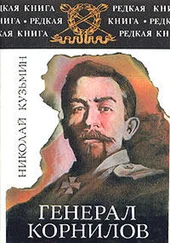


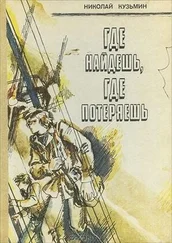







![Николай Кузьмин - Короткий миг удачи [Повести, рассказы]](/books/400221/nikolaj-kuzmin-korotkij-mig-udachi-povesti-rassk-thumb.webp)