Пользуясь передышкой в боях, бойцы в два дня отремонтировали вдове избушку, перекопали засохший огород, вычистили колодец, оставили продуктов. Так Колька стал приемышем кавалерийской бригады.
Котовский сдал мальчишку на руки Ольге Петровне.
— Боже мой! Да его, наверное, век не мыли!
Тотчас Семен Зацепа был послан разводить огонь, таскать воду.
— Семен, раздевай его. И все эти тряпки в огонь, в огонь!
Когда Зацепа, всегда мрачный, с темными неулыбающимися глазами, подошел к мальчишке, тот неожиданно покраснел и стеснительно зыркнул на молодую женщину. На губах Семена появилось подобие улыбки, глаза его потеплели.
— Глядите, Ольга Петровна, мужик, застыдился!
— Ну, некогда мне с вами! Давай его в корыто.
Истощенное тело мальчишки было сплошь покрыто синяками и мелкими болезненными гнойниками. Зацепа, разглядывая его, высказал опасение: не болен ли? Ольга Петровна, быстро намыливая остриженную голову ребенка, заметила, что это от голода.
На отмытом теле заметней выступили синяки и незажившие рубцы. Зацепа нахмурился:
— Это что же — бьют тебя?
С опущенными ручонками мальчишка стоял в грязной, черной воде. На вопрос Зацепы он склонил худую безропотную шею. Ольга Петровна, поливая его сверху из ведра, потрясла головой и смахнула слезу. Зацепа мрачно потянул в себя воздух. Подцепив на ножны шашки ворох сброшенных лохмотьев, он понес их к прогоравшему костру.
Отмытого пацана Семен завернул в две чистые портянки, сверху покрыл буркой. Колька повеселел, уже осмысленней поблескивал глазенками. Семен притащил два котелка — с борщом и кашей, положил ломоть хлеба.
— А ну-ка навались! Ешь, ешь. Брюхо лопнет — рубаха останется.
И покуда мальчишка жадничал, давился, Семен молча сидел и наблюдал. Иногда он набирал полную грудь воздуха и, прошептав: «Г-гады!», устремлял темный взгляд в раскрытое окно.
Несколько раз заявлялись любопытные, лезли на завалинку, заглядывали: как там новенький? Семен гнал их, пихая в голову.
— Ну чего, чего не видели?
Потом Колька долго, с наслаждением пил чай с сахаром. Сахару была самая малость, кусочек, он макал его в кружку и откусывал крохами; откусит, пососет и зажмурится от удовольствия. После четвертой кружки отвалился и сказал Семену:
— Фу-у… Ажник брюхо вспотело.
Зацепа как-то неумело захохотал, показав все зубы, и вдруг нахлобучил ему на стриженую голову свою фуражку. Фуражка, конечно, проваливалась на глаза, держась на одних ушах. Выпрастываясь из-под козырька, Колька задрал голову и, как колокольчик, закатился тоненьким смехом. Все лицо его стало в мелких веселых морщинках — так смеются старички. Но зубы были крепкие, белые.
Семен привязался к приемышу и не отдал его в пулеметную команду. Колька остался с ним в эскадроне. В несколько дней маленькому кавалеристу сшили по ноге сапожки, подогнали форму. Зацепа раздобыл ему белую кубанку, хотя знал, что Котовский не выносит этого ненавистного казачьего убора… В первый раз обрядив мальчишку, Семен отступил и залюбовался.
— Ну вот. А то карла…
Оглядывая свое военное убранство, Колька поковырял пальцем заштопанную дырку над левым карманом. Зацепа строго ударил его по руке, чтобы не баловался. Дырку он считал хорошей приметой на живом человеке, зная как бывалый солдат, что пуля в одно место два раза не попадает.
Наряженный, как настоящий кавалерист, Колька заважничал, стал свысока поглядывать на своих сверстников — «голубятников» из пулеметной команды.
Детвора в бригаде была окружена неназойливой, но строгой заботой. Кавалеристы, находясь который год в боях, от постоянной смертельной опасности становились все доступней для глубоких человеческих чувств, и чаще всего это выливалось на несчастных мальчишек, нашедших в бригаде свой настоящий родной дом. Жалея ребятишек, вынужденных ломить тяжелую солдатскую работу, бойцы, как могли, оберегали их, считая, что если сами они не знали в жизни счастья, так пусть хоть эта детвора узнает. «За то и бьемся, чтобы они жили лучше нас. Мы разве жили? Гнили! Родится человек и не рад, что на белый свет появился…»
В довершение Зацепа отдал приемыша в обучение к Самохину, бывшему трубачу, раненному в грудь. Ранение лишило Самохина любимого занятия: «грудь ослабла» — пояснил он Кольке, но свой инструмент, короткую, до блеска начищенную трубу, он возил в мешке. Ученика Самохин принял с важностью и строго, — бывший трубач в своем искусстве разгильдяйства не терпел. В первый же день он высказался в том смысле, что революция отвергла всю или почти всю прежнюю музыку, создав свою — гимны и походные красноармейские песни. Из прежнего революция оставила лишь самое необходимое — сигналы боевой трубы. Теперь по вечерам, когда кавалеристы заканчивали уборку лошадей, над затихающей деревней вдруг раздавались отрывистые, то шепелявые, то чистые, неожиданно умело взятые полной грудью звуки. Самохин учил по старинной сигнальной грамматике, придуманной поколениями трубачей.
Читать дальше
![Николай Кузьмин Меч и плуг [Повесть о Григории Котовском] обложка книги](/books/33365/nikolaj-kuzmin-mech-i-plug-povest-o-grigorii-kot-cover.webp)
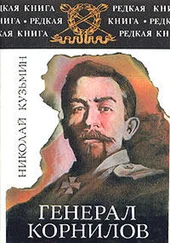


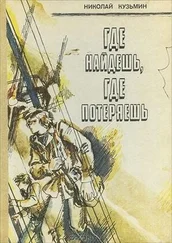







![Николай Кузьмин - Короткий миг удачи [Повести, рассказы]](/books/400221/nikolaj-kuzmin-korotkij-mig-udachi-povesti-rassk-thumb.webp)