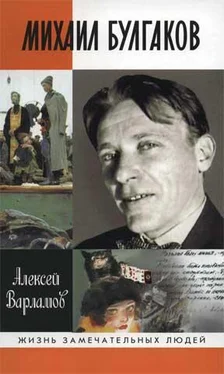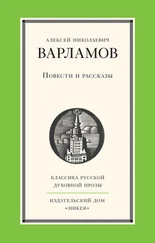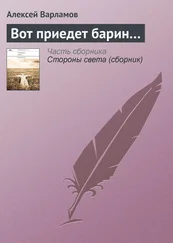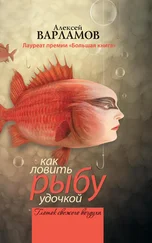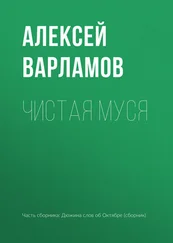Общий замысел.
Ср. у А. Л. Шварца: «Я спросил однажды Елену Сергеевну: „Как Шиловский узнал о вашей связи?“ Помедлив, она сказала: „Люба…“» (Весь Булгаков в воспоминаниях и фотографиях. С. 213).
Эту реплику приводила в своем устном мемуаре Е. С. Булгакова, которая рассказывала М. О. Чудаковой о той обстановке, в которой Булгаков работал, и о телефоне, висевшем над его письменным столом: «Однажды он сказал ей: – Люба, так невозможно, ведь я работаю! – И она отвечала беспечно: – Ничего, ты не Достоевский! – Он побледнел, – говорила Елена Сергеевна, – рассказывая мне это. Он никогда не мог простить этого Любе» ( Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 359).
Возможно, раньше, но вряд ли сильно позднее. Во всяком случае, дав в 1933 году резко отрицательную оценку жэзээловской биографии Мольера, едва ли Горький так высоко оценил бы пьесу. Изменились времена, изменился Горький, изменилось его отношение к Булгакову. Кроме того, Анатолий Смелянский приводит в своей книге письмо Бокшанской Немировичу-Данченко от 30 августа 1931 года: «Горький… спрашивал о Мольере и, узнав о его судьбе, просил прислать ему экземпляр», а также строки из письма П. А. Маркова тому же адресату: «Он (Горький) прочел „Кабалу святош“, считает, что эту пьесу нужно ставить, несмотря на некоторые ее автобиографические черты, и будет также добиваться этого» ( Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. С. 266–267).
Именно так у Горького: «искусстно». – Прим. Е. С. Булгаковой.
Бойцы Волги (фp.).
В ранних редакциях романа их нет, хотя Л. Е. Белозерская и цитирует их в своей книге воспоминаний как глубоко запавшие ей в душу еще в конце 1920-х, но это, вернее всего, ошибка памяти. М. О. Чудакова датирует их последними месяцами жизни Булгакова.
«Сегодня, когда канва основных жизненных событий писателя в общих чертах установлена, рискну высказать предположение о том, что же за „пять ошибок“ мучали Булгакова. Ясно, что речь идет о поступках переломных, меняющих течение жизни. Итак, дата „подведения итогов“ – январь 1932 года. К этому времени вторая женитьба писателя исчерпала себя. (Первая разорвана еще в 1924 году.) В Батуме много лет назад, по несчастливой случайности – Булгакова свалил тиф – сорвалась попытка эмиграции. Как бесспорную ошибку в эти месяцы мог уже расценивать писатель и то, как он провел разговор со Сталиным, разговор, предоставлявший ему, казалось, шанс резко изменить судьбу. И, наконец, недавно произошедшее объяснение с мужем Елены Сергеевны – военачальником Е. Шиловским, результатом которого стало прекращение встреч с нею» («Когда я вскоре буду умирать…». С. 115). Тут следует заметить, что, во-первых, названы лишь четыре ошибки (если, конечно, не считать ошибкой женитьбу на Тасе), а во-вторых, с тем же успехом можно предположить, что ошибкой стало занятие литературой, приезд в Москву, написание «Собачьего сердца» и т. д.
Назад в СССР (англ.).
Ср. у М. О. Чудаковой: «В общении с Е. С, от которой исходило впечатление сильной – очень! – и авантюрной личности, готовой вступить в любую рискованную (в том числе и в моральном отношении) ситуацию, нельзя было не думать о соотношении фамильных и личных свойств. В одной из наших бесед Е. С. неожиданно стала рассказывать о том, как в январе 1956 года она приехала в Ригу к умирающей матери. Это было, кажется, воспаление легких, которое уже не могли остановить – из-за старости и слабости организма. Но сердце было, видимо, здорово, и уже в бессознательном состоянии жизнь продолжалась. При больной неотлучно находилась медсестра. И Е. С. без какой бы то ни было заминки рассказала мне о том, как она распорядилась, чтобы медсестра ввела матери смертельную дозу морфия, и о том, как она держала ее за руку до последней минуты.
Понятно, сколь ошеломляющим было впечатление от такого рассказа, особенно от совершенно спокойного, я бы сказала, непринужденного тона» (Материалы к биографии Е. С. Булгаковой).
Элизабет Маньян (урожденная Елена Ивановна Прокофьева) – участница французского Сопротивления, одна из основательниц общества дружбы «Франция–СССР». Умерла в Париже в 2002 году на 97-м году жизни.
Если, впрочем, не считать «Дома искусств» в Петрограде, но то было явление чрезвычайное и временное.
Читать дальше