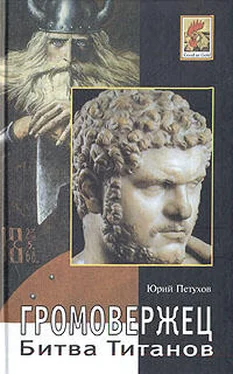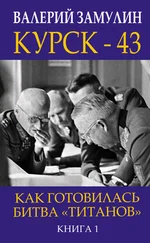— Слава тебе, Господи!
Ворон не торопил княжича. Подливал в ладонь. А тот обеими цепкими ручонками сдавливал руку, тянул на себя, и откуда только силенки брались — одним словом, князь. Ворон его не видел, но ощупывал рукой, прижимал, боялся выронить. Наконец молоко кончилось. И Ворон выпустил черепок, принялся пеленать драгоценную ношу в остатки душегреи своей, накрутил в десять слоев связку, чтоб только не расшибить о стенки, когда вытягивать станут. Княжич отбивался, кричал, пускал пузыри. И Ворон готов был кричать с ним на пару. Нет, не зря его Силы Небесные спасли! Петлю делал тройную: и под руки и под ноги. Потом еще посидел немного, прижимая голову детскую к щеке своей колючей, не чуя боли и слабости, боясь качнуться — чуть что, полетишь в могилу беспросветную.
Потом встал. И крикнул:
— Тяни!
Горякам верил, особенно Малфе.
Самого его вытянули вторым заходом. Трое бородатых тащили. А вытащили — и отбежали пугливо, как никак чужак, хоть и полуголый, увечный, а с мечом, с ножами, одноглазый. А глаз синим огнем сияет. Таких не бывает у простых людей, у смертных, это горяки хорошо знали, такие у богов, у демонов всяких… Но Ворон на них и не смотрел. Он сразу же подошел к рыдающей Малфе, прячущейся от ливня под разлапистым кедром, бережно отобрал младенца, спустил с него связку, обрывки лохмотьев, пригляделся, точно, княжич, мальчонка: крепкий, живой, вырывающийся, исхудалый немного и не по дням большой.
Ворон вышел под хлещущие с небес живительные струи, вскинул княжича в обеих руках к темным грозовым тучам, омывая его от всего тягостного и страшного в недолгом прошлом, освящая на благую жизнь грядущую. Разлапистая ослепительная молния вырвалась с тверди небесной, высветила их обоих сиянием своим неземным из полумрака, царящего над горою Диктейс-кой, над островом Скрытием и всем миром людским. Гулом раскатов ударил гром, сотрясая все вокруг.
— Жив! — прошептал Ворон, плача и смеясь. — Жив, княжич. Вот и зваться тебе отныне Живом. Отныне и на века!
Синей бескрайней гладью лежал океан-батюшка, бархатом недвижным покрывал пропасти и пучины беспроглядные, клубился по окоемам белесой туманной дымкой, сливаясь с синим густым сводом небесным. И не было конца небу и океану, не было предела двум зыбким стихиям.
Четвертый день шли на веслах. Четвертый день Старый [6] Старый — одно из древнейших хтонических божеств, повелитель стихий и самого мироздания. Ветры, бури, ураганы, ливни, извержения, стихийные бедствия — его дети и внуки, его посланники. До наших дней дожил в форме Стрибог, т. е., Стари-бог, Старый бог. Устоявшееся мнение, что Стрибог-Старый — бог повелитель одних только ветров, неверно. Стрибог, как и положено «первому поколению» богов, старому поколению, неатропоморфен, т. е. не имеет человеческого облика.
не наполнял ветрами поникшие паруса, берег внуков. Лодья резала крутой грудью своей синий бархат, пенила притихшие воды, млеющие под раскаленным солнцем. Вязкую полуденную тишь нарушали только скрип весел да шумное дыхание двух десятков гребцов. На разговоры пустые ни сил, ни времени не тратили. Пресной воды оставалось совсем мало, съестные припасы давно закончились… пора было и возвращаться в тихое, уютное море Срединное, не гневить силы неведомые и беспощадные.
Жив греб вместе со всеми. Крутые могучие мышцы перекатывались под его мокрой от пота, переливающейся в прямых лучах солнца, смуглой от загара кожей. Тяжеленное весло послушно ходило в крепких руках. Льняную рубаху, штаны грубые походные, сапоги, плащ-корзно — все оставил Жив в домине на корме, где лежал сейчас, прячась от лютого Купа-солнышка, лесовик Ворон, старый, верный Ворон. Сам сидел на скамье голый и босой, в одной повязке набедренной да с толстым кожаным ремнем на чреслах — меч боевой и нож Жив с себя не снимал даже по ночам, как и свят-оберег, висящий на необъятной груди. Оберег был матушкин, княгинин, успела перед казнью страшной подвязать к руке под мышкой. Тяжелый был свят-оберег, древний, наследный, из руд неведомых… нынче таких делать не могли, нынче все из злата, серебра — блес-кучее и яркое… матушкин крест животворящий, небесный был черен и темен. Зато густые и длинные чуть вьющиеся волосы Жива полыхали в свете дня спелой пшеницей, искрились, развевались по сторонам — приходилось их стягивать крепким ремешком, крепить узлом на затылке. Русый нежный пушок пробивался на верхней губе, под щеками, на подбородке — юн был княжич. Но серые бездонные глаза его смотрели в даль бескрайнюю строго, взглядом мужа зрелого.
Читать дальше