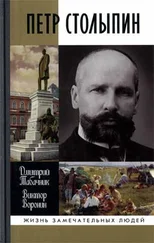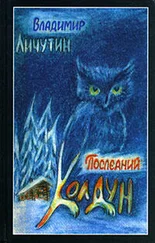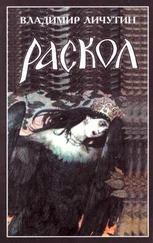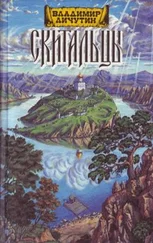– Как назвали-то?
– Василей… Ваской кликать… Разбойник, отпетая головушка, – протянула Улита Егоровна, невольно улыбаясь, словно бы поверяла о досужем человеке.
«Вишь вот… Кто-то и оследился. Не бывает река без рыбака. Ладно помешал мутовкой в квашне», – расплывчиво подумал Любим, и Олисава тут же выпала из памяти. У Любима смута в груди, тоска скрутилась под сердцем. Ужалили давешние материны слова змеей-медянкой, и укусы те заскорбели язвами… Де, прокляну, и умрешь проклятущим… Стыдно на душе, неотзывисто, и слободка, даже в праздничных весенних своих лопатинках, совсем чужа Любиму, хоть и щемит глаза от крупитчатых распалившихся снегов.
…Чего томишься, служивый? Какая печаль тебя точит, что и родная сторона кажется тюремной застенкой? Ты – царев стремянный, и тебе нужда иметь два сердца, и оба каменных. А ты разжидился, как пустоварные житенные щи.
…Да ведь братца теряю нынче, люди доб-ры-е-е! Не саньми стерет несчастного, не в воде утопнет, не в ямке под выворотнем околеет, не цинга-скорбут выпьет, не лихоманка затрясет (все это ладно бы, знать, судьба), – но удавка палача пережмет страдальцу горло, как распоследнему побродяжке, и вынет жизнь.
Брата Минейки нынче не станет; блаженный Феодор помирает в родном куту, но без святого причастия, как проклятый язычник. Юрод-мученик отплывает в мир иной, откуда никто еще не возвращался, и снега укроют костье его, как погребальная плащаница.
Тут возле земской избы наконец-то ударили в тулумбасы. От рогаток, от таможенных амбаров, от слободских клетей, из детинца потянулся служивый люд и работный, поморяне-ушкуйники и церковный причт, нищие из бобыльих изобок и преклонных лет старухи с батожьем, и совсем младенцы, сделавшие летось первый шаг… А им-то, мальцам, закоим такая наука? Наснится ночью страх Божий, и будут плакать безутешно, будоража всю избу. А для памяти сокровенной тащат их молодки, для путевого ладейного фонаря, который бы светил безотказно посреди житейских пучин, чтобы горестная ноша, коли и упадет на горбину, не казалась неподъемной; ведь Христос помирал в далеких палестинах, в иудейских землях среди корыстного народа, не узнавшего земного Бога; а тут страдальцем свой печищанин, и вот на какие благодатные вышины вознесся, плоть превозмог и отказался от нее, как от изношенного тряпья.
…Мезенская повитуха принимала дите в бане на свет Божий; слободская старуха байкала его в зыбке, сунув в рот хлебную жамку иль коровий сосок; чтимая поморская ворожея отымала наговорами от стени; с мезенскими детками игрался в подугорье, с има же и в няше колготился, поджидая прилива, чтобы острогою бить серебряную рыбу-семгу…
Говорят-де, чудес на свете не бывает. А разве не чудо, что свой слобожанин, монах и юрод, допек до печенок самого государя; сказывают-де, от речей блаженного бела света невзвидел царь и, чтобы совесть не терзала, решил известь блаженного. С глаз подале – из сердца вон; ежли совесть не подживлять скорбными мыслями, она едва пышкает, не тревожа души, а то и вовсе со временем истлеет, как ветошка.
– …Мать, ты не ходи туда, – вдруг сдавленно попросил Любим. – Не рви сердца. Ты-то ежли помрешь, дак я куда? – вдруг открылся стремянный и понял, откуда непродышливая горечь в горле, будто наелся окуневой ксени.
– Куда-куда… на кудыкину гору, – ворчливо ответила Улита Егоровна и, сгорбатясь, спустилась со взвоза и стала крохотной средь снегов, как карла. И Любим потянулся следом. Он – служивый, его место на торжище, подле палачевской стулки; не явись-ка на казнь – кликнет тайный подметник «слово и дело».
…Народ стекся. Ждали лишь воеводу.
– Казнишь юрода – уйду в пустынь, – грозится Евдокия Ильинишна, едва поспевая за благоверным. В темно-синем зипуне и в собольей шапке с заломом, валкий в ходьбе, коренастый, Цехановецкий, будто сенная копна, застит жене весь белый свет, и слова ее гневные, кинутные, в спину мужа осыпаются, как труха. У воеводы на лосином широком поясе лядунки с огневым припасом, на боку кривая янычарская сабля – чертит по снежному насту. Будто на рать собрался. Бояроня чувствует себя собачонкой и оттого еще более несчастна. Лицо бледно, как холстинка, и в тусклых глазах само страдание. – Ты не муж мне нынче… Ты не лапоть и не сапог, хоть и задрал голову. Ты вовсе сбился с пути. Как жить-то дальше станешь без души?..
– Проживу. Не твоя забота…
– Такие вот и Царя Небесного сгубили… Не могу более с тобою. Пострижусь в монастырь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
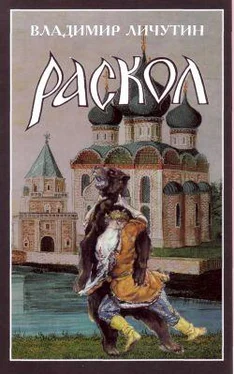

![Генри Каттнер - Крестный путь сквозь века [Перекресток столетий, Сквозь века]](/books/50568/genri-kattner-krestnyj-put-skvoz-veka-perekrest-thumb.webp)