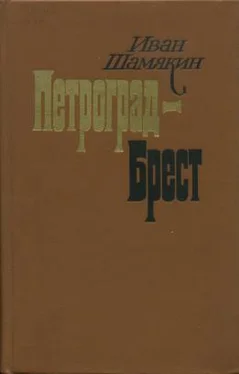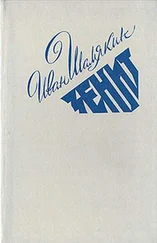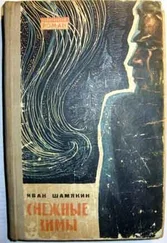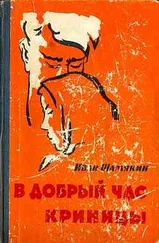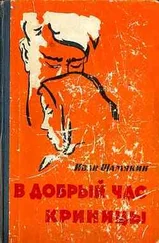Леля с радостным смехом, начинавшим уже не просто злить — оскорблять Стасю, натянула на нее свой тесный халатик и вручила кучу белья и одежды:
— В ванной примеришь, что тебе подойдет. А я побегу отца искать. Боже, как он обрадуется! Мы так волновались… так волновались… за Сережу.
— Его контузило, и он ничего не слышал. Только здесь, в Минске, у него немного отложило уши.
— Что ты говоришь?! — Красивое лицо дрогнуло от страха и боли, и это заглушило Стасину враждебность, появилось доброе чувство женской солидарности, что часто бывает, когда женщины думают об одном и том же человеке — сыне, брате, муже, страдают, боятся за него.
Оставшись одна, Стася осмотрела комнату. Не так уж богато, совсем не то что в баронском дворце. Очень чисто, аккуратно, но все простенькое. Она облегченно вздохнула.
Отчуждение появилось вновь в ванной комнате, куда ее позвала Василина. Гудело пламя в печурке водяной колонки. Блестела беленькая ванна, и в ней колыхалась зеленая вода — как в речке в сумерки, на столике — коробочки и щеточки. Горели у зеркала свечи — электричества не было. Все это как-то по-новому взволновало и смутило батрачку. Еще больше растерялась, заметив, как Василина осмотрела ее, когда она сняла халат, и как вздохнула. Непонятно вздохнула — то ли пожалев о чем-то, то ли восхитившись ее красотой. Может, пожалела, что и ее когда-то такое же красивое тело из-за проклятой оспы состарилось без пользы, не изведав ласки мужа или ребенка — сыночка или доченьки.
После ванны у Стаей было такое ощущение, что помыла она не только свое оскверненное тело, но и душу, смыла с нее накипь, грязь, и стала она, душа ее, чистой, как была в детстве, но и ранимой такой же: чуть дотронься — больно.
Леля наряжала ее, как невесту, сама расчесывала волосы. Стася покорно давала ей делать это, только один раз ее наряжали так — под венец. От воспоминаний было грустно и тоскливо. А еще боязно: как она выйдет к мужчинам — к Сергею Валентиновичу, к Валентину Викентьевичу? Голоса их гудели за стеной, в большой комнате.
А Сергей не мог нарадоваться, что слышит все лучше и лучше и что он дома, среди своих. Правда, с возвращением слуха перестал думать, как думал в лесу, что война для него кончена навсегда. Нет, он вообще не думал о завтрашнем дне. Когда тут думать? Со слухом возвратилась активность. Он брился — словно священнодействовал. Он слушал шум воды из крана как самую чудесную музыку. Помогал матери и Василине накрывать на стол и нарочно звенел бокалами. Правда, немного смущала мамина настороженность, но одновременно и трогала ее деликатность: мама не спросила, как он прожил это время — с последней побывки и особенно во время немецкого наступления, когда его контузило.
Еще больше порадовал его отец. Старый адвокат, горячий в суде, но сдержанный дома, целовал его не со слезами — с молодым смехом; так встречаются гимназические или университетские друзья. Он тоже в разговоре хитро обходил войну, немецкую оккупацию. Предупрежденный женой, что сын плохо слышит, Валентин Викентьевич нарочито громко говорил сам — вспоминал прошлое, довоенное прошлое. Впрочем, для серьезного разговора и времени не было еще. Они украшали стол, ожидая Лелю и Стасю. Наконец те вышли. Стася едва узнала Сергея. Кто этот худенький мальчик в белоснежной сорочке, в черной бархатной курточке, чистенький, с прилизанно-мокрыми волосами? Он! Как же он непохож на командира полка, на контуженого солдата! Как вести себя с этим человеком?
Старый Богунович галантно приблизился к ней, одетой в Лелино тесноватое платье, склонил голову в полупоклоне, взял ее руку и поцеловал. Стася страшна сконфузилась. Никто в жизни не целовал ее руки! А Сергею ударило в сердце: он вдруг сообразил, почему со Стасей так обходятся. И воспоминание о Мире обожгло его. Он весь сжался, замер и, казалось, снова оглох; какое-то мгновение не слышал ни громкого голоса отца, ни приглушенного — матери, ни звонкого смеха сестры.
Их посадили рядом — его и Стасю. Но по белой скатерти, как по снежному полю, покатилась красная косынка. От страшного видения он закрылся салфеткой — закрыл глаза, лицо… И вдруг затрясся в тяжелом немом рыдании.
Домашние знали — никогда он не был слезлив, поэтому очень испугались.
— Сережа! Мальчик мой! Что с тобой?
— Сережа! Братик!
— Ничего, ничего, это нервы, нервы…
— Не трогайте его! — сурово и властно сказала Стася. — Они убили его жену.
На миг все онемели. Даже старый адвокат, умевший многое оправдать, растерялся.
Читать дальше