На улице это злобное чувство волновало еще острее. Проезжая по Фонтанке и по Садовой, мимо церкви Покрова Богородицы, заходя в извозчичьи трактиры, он вспоминал короткие встречи с Сережей, его исполненные любви, тогда чужие и теперь незабываемые слова. И хотя террор временно был прекращен, он, не спрашивая ничьих указаний, один, на свой страх, пытался продолжать «наблюдение». Он часами простаивал у казенных домов – у Военного министерства, у Государственного совета, у Таврического дворца, у Главного штаба – и усердно следил, не покажется ли сгорбленный, хромоногий, в генеральском пальто, старик. Он верил, что высший долг, обязанность перед партией – тяжким трудом достигнуть победы. Эта вера вдохновляла его и оправдывала задуманное убийство.
После смерти Сережи Болотов понял, чем живет Ипполит. Он понял, что этим, истомленным неравной борьбой, осиротелым и обессиленным человеком владеет ненависть – ожесточенная злоба. Ипполит был уверен, что он не один, что Арсений Иванович, и доктор Берг, и Вера Андреевна, и комитет, и партия, и Россия, весь многомиллионный русский народ ожидают обещанного убийства. Он был уверен, что только случайно именно он руководит дружиной и что каждый член партии, каждый голодный крестьянин, каждый нищий студент с радостью заменит его и отдаст свою жизнь. Он не понимал, что он – исключение, что Россия молчит, что революция разбита и что его непримиримые бомбы – догорающие, уже безрадостные зарницы. Но если бы даже он понял, что правительство победило и что не поддержанная народом партия не в силах бороться, он не мог бы оставить «работы». Он думал, что только смерть венчает кровавое дело, и ждал своей смерти, как награды и избавления.
Сочувствие и поддержку он находил в своем друге Абраме. Абрам, добродушный, с широким детским лицом, громадного роста кожевник, оставил в Вильне семью. Не передовые статьи и не речи ораторов убедили его в необходимости «систематического» террора. Он на опыте, на погромах, на сожженных домах и расстрелянных детях узнал жестокость «благоустроенной» жизни и не усомнился в законности «огня и меча». Так же как Ипполит, он жил непоколебленной верой, что его благословляет народ, замученный от века Израиль и что «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».
Но в одном они не могли согласиться: Абрам, посмеиваясь, с пренебрежительной усмешкой отзывался о «господах» и «студентах» и не любил комитета. На горячие убеждения, что он не прав и что комитет не делает разницы между солдатом и генералом, помещиком и рабочим, он упрямо и недоверчиво отвечал: «Знаю… Ха!.. Не втирайте очков… Та же эксплуатация… Американская выжимочка…» Его место было в дружине Володи, но по счастливому совпадению его нашел Ипполит, и Абрам привязался к нему – «эксплуататору» и «студенту» – душою и телом. Болотов любил его еврейские смеющиеся глаза и наивную душевную чистоту – отсутствие «интеллигентских» вопросов.
Анна, худощекая, бледная, тридцатилетняя девушка с серыми навыкате сияющими глазами, готовила бомбы и хранила у себя динамит. Бывшая фельдшерица в селе, она вынесла из деревни глубокую, не книжную, не программную, а живую и искреннюю любовь к народу. Эта любовь толкнула ее в террор. Она не знала ни ненависти, ни злобы и, как Сережа, тяготилась убийством. Но она думала, что, убивая чиновников и князей, она приносит неоценимую пользу, приближает день революции, тот день, когда «не будет богатых и бедных, господ и рабов, властителей и подвластных». Она одевалась небрежно, курила толстые папиросы и говорила по-нижегородски на «о». Болотов привязался к ней. Ему нравились ее скромность, ее готовность радостно умереть, ее восторженные рассказы о деревне и мужиках, ее незлобивость и правдивость и грубоватый, почти мужской голос. Комитет она уважала и верила, что партии предстоит победить мир.
Главный военный прокурор жил на Литейном проспекте, в казарменном, неуютном и мрачном особняке. В конце августа «изыскания» установили, что еженедельно, по четвергам, он ездит в Военное министерство. Болотов изучил не только его лицо, усы, руки, волосы, ордена и погоны, но и кучера, лошадей, карету, ее колеса, спицы, фонари, и вожжи, и подножки, и окна. Он узнавал прокурора на расстоянии пятидесяти шагов и предсказывал без ошибки, поедет он или нет: в день его выездов у подъезда сторожили шпионы и длиннобородые дворники караулили у ворот.
Стояло бабье лето. Дни выдались ясные, полупрозрачные, хрустально-осенние. В Петровском парке золотом опадали березы; птицы не пели, и по вечерам, за Невой, огневыми лучами пылало море. Ночи были прохладные, с серебристыми звездами и утренниками на ранней заре. В первых числах сентября, в понедельник, Болотов, встретив прокурора на Невском, вечером вернулся домой, развожжал запотелую лошадь, распряг и поставил ее в денник. Не убирая пролетки, он надел суконный картуз и, обходя вонючие лужи, вышел в ворота. На лавочке, у ворот, сидел лохматый, черный как смоль Стрелов и толстый дворник Супрыткин.
Читать дальше
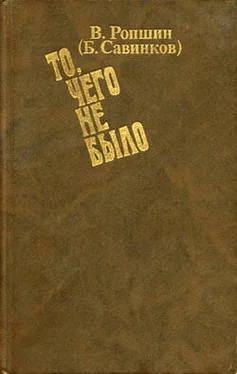

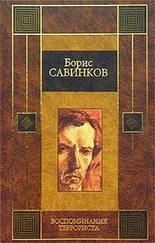





![Элизабет Лофтус - Миф об утраченных воспоминаниях [Как вспомнить то, чего не было] [litres]](/books/412244/elizabet-loftus-mif-ob-utrachennyh-vospominaniyah-k-thumb.webp)
