– Андрей Николаевич!
– Что?
– Ну, что скажете, Андрей Николаевич?
– Что я скажу?… Разбой на большой дороге…
– Безусловно, разбой… Я тоже так думаю: неисчислимый вред для партии будет.
– Вред? – угрюмо спросил Абрам. – Что значит вред? Разве деньги на конфеты пойдут?… Странное дело… Если будем стесняться, – что будет?… Ха… Разбой!.. У нас не эксплуатируют? Матери плачут, дочери по улицам ходят… А погромы?… Вы забыли погромы? Ну, так я не забыл… Зачем говорите: разбой? Разве мы судьи?… Как не стыдно судить?… И что можно делать без денег?… Объясните мне – что?
Болотов не ответил. Ваня покраснел и тоже ничего не сказал.
– А помните, Ваня, вы говорили: «Грех большой вышел»?
– Это вы про казаков?
– Да, про казаков.
– Безусловно, что грех… Эх, Андрей Николаевич, мало, что ли, мы греха на душу берем?… И счесть невозможно… Не замолить, – он улыбнулся новой для Болотова, принужденной и жалкой улыбкой. – Да ведь что же поделаешь? Не для себя… За партию… За землю и волю… Нам самим ничего не нужно…
«Вот и Ваня так говорит, – думал Болотов. – Неужели я ошибаюсь? Неужели мои сомнения – только досужие, „интеллигентские“ мысли?… Неужели во имя народа позволено все, и правда в Ипполите, Розенштерне и Ване?… Ведь не в Сережиных словах правда?… Не в заповедях завета…»
На востоке торжественно разгоралась заря. Алый, пламенем пылающий шар позолотил вершины деревьев и розовыми лучами заблестел на снегу. Болотов опустил окно. Потянуло влажным и бодрым дыханием леса. Свистнул пронзительно паровоз. Пробежали финские избы, платформа и семафор.
«Иматра», – протяжно крикнул кондуктор.
Утопая в снежных сугробах, Ваня, Болотов и Абрам узкой тропинкой прошли к водопаду. Еще издали был слышен глухой и тягостный рев, похожий на гул морского прибоя. Болотов, скользя по мокрым камням и цепляясь за скрипучие ели, осторожно спустился к реке. Держась за скалу, он с трепетом заглянул вниз. Вода была дымно-желтая, мутная и такая стремительно быстрая, что казалась застывшей, точно вылитой из металла. Болотов, обрызганный ледяной пеной, забывая про наблюдение, конюшню, Стрелова и извозчичий двор, долго слушал оглушительный грохот, безглагольную и мятежную речь. На минуту он утратил сознание: не было Иматры, сосен, алмазных брызг и мшистых камней, не было тревог, несчастий и огорчений, не было его, Болотова, и дружины, и Абрама, и Ипполита. Было одно могучее целое, одна вечная и неразделимая, благословенная жизнь.
«А мы убиваем… Зачем?» – с тоской подумал он. И почему-то вспомнились заученные в школе стихи:
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет?… Небо ясно,
Под небом много места всем…
Но непрестанно и напрасно
Один враждует он… Зачем?
У Малой Иматры, там, где клокочущее течение, смиряясь, становится ровнее и тише, Болотов увидел Ипполита, Сережу и незнакомую девушку в барашковой шапке. Девушка сидела у самой воды, спиною к тропинке, и не услышала, как он подошел. Только когда Абрам окликнул ее, она нехотя обернулась. Болотов удивился. Он не знал, что в дружине есть женщина, и ему стало досадно, что Ипполит «конспирировал» от него.
После первых приветственных слов все умолкли. Ваня поднял смышленые узкие, как щели, глаза:
– Что же? К делу, Ипполит Алексеевич…
– Да… к делу… – задумчиво сказал Ипполит. – Необходимо решить важный вопрос… Анна, вы слушаете?… Комитет поставил условием, чтобы прокурор был убит во всяком случае не позже открытия Государственной думы. Прав или не прав комитет, судить, полагаю, не нам: мы обязаны подчиниться его решению. Итак, времени у нас две недели. Наша работа не дала результатов. Я намеревался приступить к убийству на улице. Но на улице невозможно: кто поручится, что не выйдет ошибки?… Кроме того, надо считаться с последней экспроприацией. Полиция начеку; и работать теперь труднее… Я спрашиваю поэтому, нельзя ли, изменив план, теперь же убить прокурора и тем исполнить комитетский приказ?
Чем дальше говорил Ипполит, тем отрывистее и резче звучал его голос. По бледному, с тонкими чертами лицу и покрасневшим карим, глубоко запавшим глазам было заметно, что он не спал всю ночь напролет и что точные, строго взвешенные слова дались тревожным/ раздумьем. Болотов слушал, и ему казалось, что он начинает понимать Ипполита, – его чрезмерную «конспирацию», его ненависть к разговорам, его замкнутую взыскательность и холодную отчужденность. «У него, наверное, нет любви, нет радости, нет сомнений. Он весь в „деле“, в терроре… Он влюбился… Да, да… он влюбился в террор», – подумал Болотов, и ему стало стыдно, что он мог досадовать на него.
Читать дальше
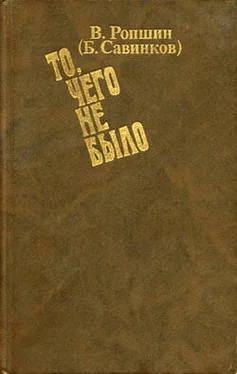

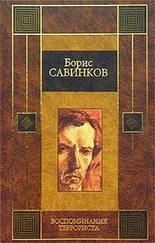





![Элизабет Лофтус - Миф об утраченных воспоминаниях [Как вспомнить то, чего не было] [litres]](/books/412244/elizabet-loftus-mif-ob-utrachennyh-vospominaniyah-k-thumb.webp)
