– Конечно, конечно, поезжайте! – советовал он. – Надо еще навести справки, получить ответы, вероятно, мы через месяц отпустим вашего сына продолжать путь на Урал!
Я была рада и этой надежде. Могла ли я подозревать, что мне готовили западню?
Но, прежде чем ехать домой, я ранее проехала в Петербург, надеясь сделать там что-нибудь для него. Директор Лопухин меня тотчас же принял, но, к моему изумлению, оказалось, что он ничего не знал о задержке сына в Москве. Он отнесся к этому серьезно, обещал немедленно узнать, в чем дело, и сказал мне на прощанье:
– Я думаю, что тут какое-то недоразумение, иначе у нас в департаменте было бы что-нибудь известно!
– Хорошо недоразумение! – не удержалась я. – Из-за недоразумения держать человека уже три месяца взаперти!
Лопухин сконфузился немного и сказал, что если это так окажется, то он допустит сына вернуться в Петербург держать экзамен в Горном институте прежде исполнения приговора.
Окрыленная этой надеждой, вернувшись домой, я несколько успокоила встревоженного мужа этим обещанием. Значит, дело было не так плохо, и нашим тревогам мог настать скорый конец. Не тут-то было! Пока я устраивала младших детей, от сына получались письма, но что-то уж очень короткие: он писал только, что здоров и ни в чем не нуждается. Краткость эта меня тревожила: обыкновенно он писал обстоятельные. Поэтому, наладив кое-как учебную часть младших, в начале сентября я поспешила опять в Москву, тотчас же отправилась в жандармское управление и вызвала Орчинского. После обычных приемов ожидания, он наконец вышел ко мне. Лицо его имело злорадное выражение, и он иронически улыбался.
– Опять пожаловали? – усмехнулся он и на мой вопрос об освобождении сына беззаботно прибавил:
– Да не скоро! месяца через три!
– Как? – спросила я. – Вы же сами обещали освободить сына в сентябре?
– Мало ли что я обещал! Открылись новые обстоятельства… Пришлось перевести вашего сына в тюрьму, – и глаза его приняли кошачье выражение.
– Как в тюрьму? Опять? В одиночное заключение? – закричала я.
– Да-с, в одиночное заключение! – был ответ. Я едва удержалась на ногах… Но я не хотела дать ему наслаждаться моим отчаянием. Я поборола себя и сказала:
– Потрудитесь дать мне свидание с сыном!
– Но это ужасно далеко! – сказал поручик Орчинский с видимой насмешкой. – Это у Бутырской заставы – долго ехать!
Я видела, что он издевается.
– Я прошу свидания с сыном на законном основании, как мать и как приезжая. Я желаю видеть сына!
Он щелкнул шпорами.
– Завтра, в два часа!
Нечего и говорить, что в тюрьму я приехала своевременно. Меня встретил Анжело. Он почему-то был смущен, но, взволнованная предстоявшим свиданием, я не обратила на это внимания. Скоро, однако, я поняла причину этого смущения, когда он привел меня в какую-то каморку, в которой, за двумя частыми, как решето, решетками, я едва могла различить какую-то человеческую фигуру. И только хорошо присмотревшись, я с ужасом и отчаянием убедилась, что это мой сын! Да! За двумя решетками, как зверь, худой, как скелет, смертельно бледный, с глубоко впавшими глазами, тяжело дышавший, он не имел силы даже обрадоваться мне. Тихо, апатично сказал он:
– Ты опять приехала!
– Но что же это? Ты болен? Ты едва стоишь! – спросила я его.
– Они лишили меня света! – послышался прерывистый голос: – Я все мог перенести, но не это! Я – в могиле!
Я обернулась к стоявшему около меня Анжело.
– Это злодейство! – вне себя сказала я. – И вы допустили? Вы могли? – Он молчал. Я обернулась к сыну. – Мужайся! – твердо сказала я, – я вырву тебя отсюда. Прекратите свидание! – обратилась я к Анжело, чувствуя, что сейчас упаду…
Как безумная, ехала я назад. Я знала одно, что к жандармам более не вернусь; всякое обращение к ним было глубоким унижением. Теперь я поняла желание Орчинского выпроводить меня из Москвы…
И, как после оказалось, на другой же день после моего отъезда сын мой был переведен в тюрьму и лишен света. Эта пытка была придумана для того, чтобы заставить его говорить на допросах. Впоследствии сын рассказывал мне, что в его камеру не доносилось ни единого звука, не было слышно даже шагов часовых. В окне же, с наружной стороны, был вставлен щит таким образом, чтобы не было видно даже неба. В комнате был вечный полумрак, нельзя было читать, нельзя было различать ясно маленькие предметы. И он по целым часам просиживал у щита, в котором была крошечная дырочка. Через эту дырочку что-то будто блестело вдали, и он, не отрываясь, глядел в нее.
Читать дальше
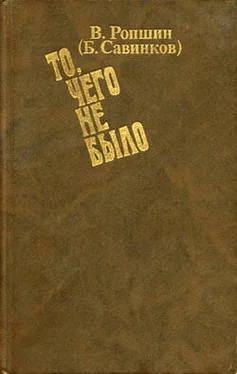

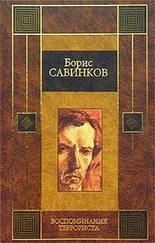





![Элизабет Лофтус - Миф об утраченных воспоминаниях [Как вспомнить то, чего не было] [litres]](/books/412244/elizabet-loftus-mif-ob-utrachennyh-vospominaniyah-k-thumb.webp)
