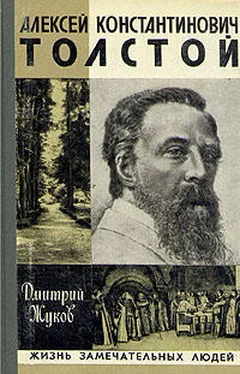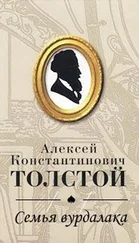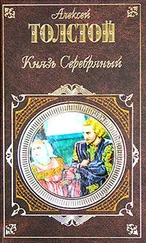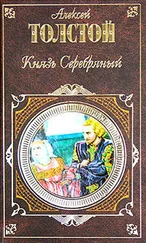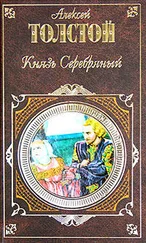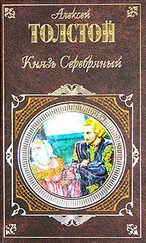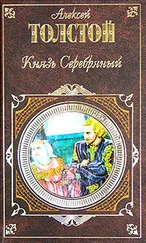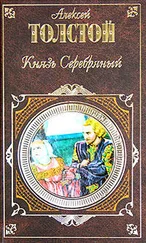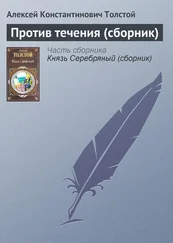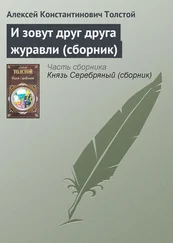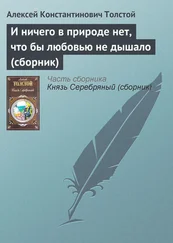Похоронили Анну Алексеевну в Троице-Сергиевой пустыни, в восемнадцати верстах от Петербурга, на южном берегу Финского залива. Вернувшись с похорон, Толстой написал Софье Андреевне: «Все кончилось, моя мать в могиле, все разъехались, я остаюсь один с ней». Потом приехал Алексей Бобринский, и они, еще с Алексеем Жемчужниковым, отправились на Крестовый - отвезти детям апельсины, отвлечься. Но когда подошел час, в который Толстой обычно виделся с матерью, ему сделалось больно, и он уехал. Дни и ночи проходят как в тумане. По вечерам он не может оставаться в пустом доме и просит приюта у Бобринского. А Софье Андреевне пишет: «Ты теперь мой единственный друг в этом мире, где я чужой...»
На девятый день Толстой опять в Сергиевской. У него все время ощущение, что это сон, что он сейчас проснется и снова увидит мать, будет говорить с ней, делиться радостями и горестями... На время Толстой оставил свою громадную квартиру и нанял другую, за сто рублей, в доме Фоминой в Ковенском переулке.
В августе вернулась из-за границы Софья Андреевна, и душевное равновесие Толстого было восстановлено. Они уехали в Пустыньку. Туда же перевезли семью Петра Андреевича Бахметева. При детях его были пять гувернанток и учителей. В имении строился большой дом, в парке сажали аллеи из высоких лип. Начались материальные заботы. Софья Андреевна очень мало тратила на туалеты, но деньги нужны были на воспитание ее племянников и племянниц. Она редко выезжала. У себя Толстые принимали самых избранных, которых, как и хозяев, волновала тема освобождения крестьян.
Алексей Толстой терпеть не мог помещичьих разговоров, подобных тем, о которых III Отделение доносило - крестьяне-де на полной свободе лютее зверя; волнения и грабежи неизбежны, того и жди пугачевщины. Бывало, Толстой даже выгонял из своего дома заядлых крепостников.
В ноябре Софья Андреевна писала своей матери: «Все время говорят об освобождении, этот вопрос волнует все умы и является благом. Помогает жить надежда на новый порядок вещей, который будет хорошим, если господь его допустит».
В письме явно чувствуется влияние Толстого, который верит, что его сверстник сдержит свое слово и проведет реформу. О самом Алексее Константиновиче его возлюбленная сообщает в том же письме:
«Он вернется, вероятно, на праздники. Он уехал восемь дней назад. Невозможно, мама, рассказать Вам, какой это друг для меня, и за шесть лет, которые я его знаю, мне кажется, что его привязанность делается все сильней».
Толстой в это время был в пути. Из Алупки пришло известие о смертельной болезни дяди Василия Алексеевича Перовского, и Толстой взял отпуск на шесть недель. По раскисшей дороге, почти все время под проливным дождем он спешит на юг, но то и дело ломаются колеса. В пути он сочиняет стихотворения, а на станциях записывает их. По-прежнему в нем «не потухает священный огонь» вдохновения. Он убежден, что именно Софья Андреевна, только она поддерживает этот огонь. Из Курска он пишет ей: «Я все отношу к тебе: славу, счастье, существование; без тебя ничего мне не останется, и я себе сделаюсь отвратительным».
Неподалеку от Перекопа Алексей Константинович встретил крымского губернатора графа Строганова, который сообщил, что Перовскому совсем плохо. Как ни торопился Толстой, в живых дядю он уже не застал. Василий Алексеевич очень ждал его, завещал ему и своему брату Борису Перовскому, уже делавшему большую карьеру, быть его душеприказчиками.
Похоронили Перовского в монастыре святого Георгия. Был декабрь, но в Крыму зеленели лавровые кусты, плющ... У обочины дороги, по которой Толстой вместе с другими нес гроб, выстроились кипарисы, словно солдаты в почетном карауле, отдающие последний долг генералу, оставившему заметный след в истории своего отечества...
Обратный путь тоже был тяжек - ветры, метели - и плодотворен. «Ты не знаешь, какой гром рифм грохочет во мне, какие волны поэзии бушуют во мне и просятся на волю...» - сообщал Толстой с дороги Софье Андреевне.
Глава седьмая
ИСКУССТВО ИЛИ СЛУЖБА?
Равнодушный к деньгам, Толстой стал наследником трех громадных состояний, владельцем примерно сорока тысяч десятин земли. Властные родственники уже не сковывали его воли, но в своем горе он как-то не сразу это осознал.
Теперь он уже не разлучался с Софьей Андреевной, дело которой о расторжении брака с Миллером велось медленно, а Толстой не прибегал к ускорению его через своих влиятельных знакомых во избежание ненужных разговоров...
Читать дальше