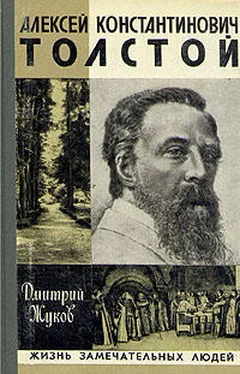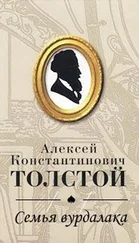Две недели они отдыхали в разграбленном «союзниками» и приведенном кое-как в порядок доме. Прекрасный парк вокруг дома был вырублен, мебель изломана, картины прострелены, стены залиты вином и исписаны непотребными и хвастливыми надписями врагов. Некоторые из надписей Толстой скопировал и отправил Льву Перовскому. В записной книжке у него сохранилась строка: «Так вот что представлял мне часто сон упорный». Как будто он уже видел и раньше эту картину разорения. «Ни стола, ни стула», - писал он матери.
Восстанавливать события по стихам - неблагодарное дело. Заглянув в лабораторию поэта, в его записную книжку, видишь, как в вариантах исчезают упоминания о спорах, ропоте, гневе, досаде... Некогда А. А. Кондратьев прибегал к историко-литературным сопоставлениям. В одну схему вписывались Данте и Беатриче, Петрарка и Лаура, Алексей Константинович и Софья Андреевна. Но не прекраснее ли живая женщина со всеми ее недостатками и достоинствами бесплотного поэтического идеала? Не пленительней ли сладость примирений поклонения издалека? Однако поэзия преображает земные отношения, набрасывая на них романтическую вуаль, сквозь которую не видны подробности, а угадываются лишь прелестные черты.
И вот как видится поэту приезд их с Софьей Андреевной в Мелас:
Обычной полная печали,
Ты входишь в этот бедный дом,
Который ядра осыпали
Недавно пламенным дождем;
Но юный плющ, виясь вкруг зданья,
Покрыл следы вражды и зла -
Ужель еще твои страданья
Моя любовь не обвила?
Но все-таки «Крымские очерки» и другие стихотворения, которые Алексей Толстой счел достойными опубликования в том же году, исполнены не одной лишь романтической символики. В них множество примет времени, а главное - величественных картин прекрасной крымской природы, овеянной духом древних культур и памятью о бурных исторических событиях. Пренебрежем хронологией, порядком написания вещей, прислушаемся к гимну извечной и знакомой нам красоте Южного берега:
Над неприступной крутизною
Повис туманный небосклон;
Там гор зубчатою стеною
От юга север отдален.
Там ночь и снег; там, враг веселья,
Седой зимы сердитый бог
Играет вьюгой и метелью,
Ярясь, уста примкнул к ущелью
И воет в их гранитный рог.
Но здесь благоухают розы,
Бессильно вихрем снеговым
Сюда он шлет свои угрозы,
Цветущий берег невредим.
Над ним весна младая веет,
И лавр, Дианою храним,
В лучах полудня зеленеет
Над морем вечно голубым.
С верхнего шоссе Мелас кажется крохотным зеленым оазисом среди нагромождения скал, словно бы растущих из моря. А над шоссе возвышается на сотни метров отвесная стена, венчаемая горой, напоминающей дракона с гребнем выступов вдоль всей спины. Спустимся вниз, войдем в парк Меласа, где, как и сто с лишним лет назад, заливаются майские соловьи. И уцелел пятисотлетний дуб, стоящий в обнимку с кипарисом. Тихо, чисто и сонно кругом.
Но мы напомним об Алексее Константиновиче Толстом, воспевшем некогда опустошенное имение и синее море. Напомним, как он возмущался, увидев надписи врагов, «рисунки грубые и шутки площадные, где с наглым торжеством поносится Россия». Напомним, как в сумерки, когда в аллеях сгустилась тьма, когда стал сильнее запах цветов и трав, он сидел на сломанном крыльце и думал в тишине, которая нисколько не нарушалась шумом прибоя...
Все чаще он уединялся, чтобы осмыслить пережитое. Софья Андреевна вдруг принимала эти уединения за охлаждение, мучилась ревностью, а он торопливо черкал в записной книжке: «О, не страшись несбыточной измены и не кляни грядущего, мой друг, любовь души не знает перемены; моя душа любить не будет двух...»
Порой ревновал и он. Но к кому? К Миллеру? Вяземскому? «Ты клонишь лик, о нем воспоминая, и до чела твоя восходит кровь; не верь себе. Сама того не зная, ты любишь в нем лишь первую любовь...»
...И были поездки по каменистой дороге средь душистых акаций, когда Софья Андреевна, красиво изгибаясь и держась одной рукой за луку седла, другой рвала алые цветы шиповника и убирала ими косматую гриву своей буланой лошадки. Были опасные подъемы на мрачный, похожий на сундук Чатырдаг. И было путешествие по Яйле в Бахчисарай с ночлегами у костров в живописных лесистых ущельях...
Вернувшись к двадцатому июня в Одессу, Толстей прочел ожидавшее его письмо от матери. Она звала его в Красный Рог, она тревожилась... Он понимал ее тревогу и боялся новых объяснений.
Читать дальше