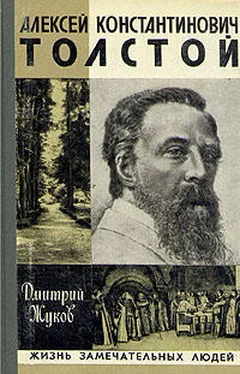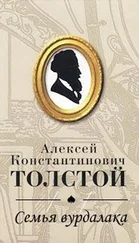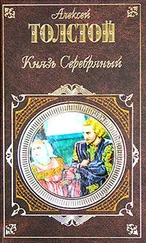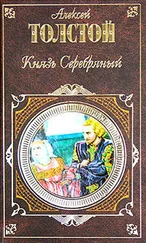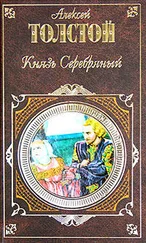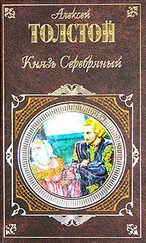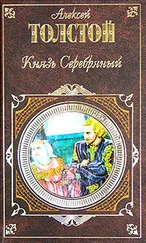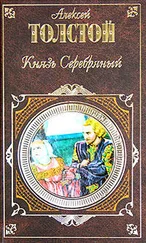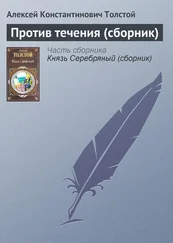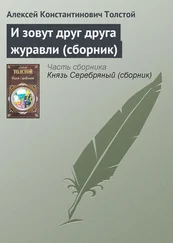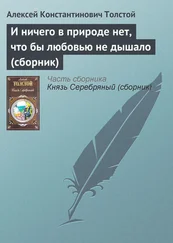Вот уже двенадцать лет они живут вместе, а еще не венчаны. Кажется, вечность прошла с их встречи на бале-маскараде, но они не замечали перемен друг в друге. Софья Андреевна ворчала на Алексея Константиновича за то, что он без конца курит свои толстые пахучие сигары и дым слоями висит до утра в его рабочем кабинете. В такие ночи Софья Андреевна тоже не спит, читая запойно в своей постели.
Если на Каролаштрассе, 8 заглядывал кто-либо из старых друзей, в глаза ему бросалась разительная перемена во внешности Алексея Константиновича. Он погрузнел, от прежнего румянца не осталось и следа - лицо стало землистым, черты его словно бы отяжелели, укрупнились, под глазами напухли мешки. Он болел, тяжко болел. У него и прежде бывали головные боли. Ныла нога, что не позволило в свое время совершить вместе с полком поход до Одессы. Но теперь, казалось, разладилось все - словно огнем прожигало желудок. Толстого часто тошнило и рвало. Были приступы удушья, появились боли в области сердца...
Опытные немецкие врачи часто навещали его, качали головами и писали рекомендательные письма к коллегам - кто в Шлангенбад, кто в Карлсбад, к целебной воде которого и знаменитому тамошнему профессору Иосифу Зегену поэт будет возвращаться до конца своей жизни.
Из Дрездена они с Софьей Андреевной наезжали в другие немецкие города в ту зиму. Побывали в Берлине, где познакомились с историком Шлейденом, политиком Дункером и писателем Ауэрбахом, который издал пятитомное собрание сочинений Спинозы в своем переводе и нашел в Бахметевой большую почитательницу этого философа.
Да, Софья Андреевна снова стала Бахметевой, так как бракоразводный процесс ее с Миллером закончился. Теперь они с Алексеем Константиновичем могли обвенчаться, что и сделали в дрезденской православной церкви, стоящей неподалеку от вокзала Нойштадт и поныне.
Событие это имело место 3 апреля 1863 года при весьма небольшом стечении народа. Шаферами на свадьбе Толстого были специально приехавшие Николай Жемчужников и Алексей Бобринский. Известно еще, что в Дрездене в то время находился Анатолий Гагарин, племянник старого знакомого Толстых, генерал-майора и вице-президента Академии художеств князя Григория Гагарина, прославившегося своими рисунками, сделанными на Кавказе, росписью Сионского собора в Тифлисе и созданием при академии музея древнехристианского искусства. Он все говорил Толстому, что намеревается иллюстрировать «Князя Серебряного». Алексей Константинович давал ему на сей счет советы, но намерение Гагарина почему-то не осуществилось.
Вскоре после свадьбы Алексей Толстой оказался гостем «Матицы сербской» в Бауцене, небольшом городке близ Дрездена.
Но что это за «Матица сербска»?
Некогда племена западных славян населяли Европу до самого Гамбурга на севере и до Венеции на юге. Они были язычниками, враждовали друг с другом и не могли противостоять натиску германцев, уже принявших христианство и образовавших гигантскую империю. Западные славяне частью были перебиты, а частью германизировались настолько, что потом об их происхождении напоминали лишь сохранившиеся в названиях немецких городов и фамилиях корни славянских слов. И только лужичане (сербы, зорбы, венды), покоренные впервые при Карле Великом, еще долго сопротивлялись, в IX веке жили под защитой великоморавского князя Святополка, но потом их вождей истребили, а земли были переданы во владение немецким рыцарям и монастырям. Однако лужицкие сербы, укрывшись на незавидных землях, либо в горах, либо на болотах, сумели сохранить в деревнях свой язык, одежду и жизненный уклад. Короче говоря, к XIX веку в немецком море оставался славянский островок, насчитывавший всего около двух сотен тысяч человек. К тому времени лужичанам разрешили снова селиться в городах, и в Бауцене, или Будишине (по-сербски), образованные патриоты стали бороться за возрождение сербского языка, появились национальные общества, периодические издания, возникла своя литература. Стараниями Яна Смоляра и других в 1845 году была основана, а в 1847-м разрешена «Матица сербска». Такие матицы (матки, королевы пчел), просветительские общества, уже существовали у чехов и южных славян, не обладавших независимостью, и призваны были защищать интересы народа, пробуждать в нем национальное самосознание путем выпуска патриотических книг, устройства читален, концертов, вечеров...
Ян Смоляр, однолетка Толстого, часто бывал в России, запасался книгами, собирал деньги. Он познакомился с Толстым через славянофилов. В ноябре 1859 года Толстой вместе с Хомяковым и Кошелевым пожертвовал на духовное возрождение лужицких славян пятьсот рублей. Ян Смоляр выпускал на собранные деньги народный календарь, учебники, переводы «Отголосков русских песен» Челаковского, «Краледворской рукописи»...
Читать дальше