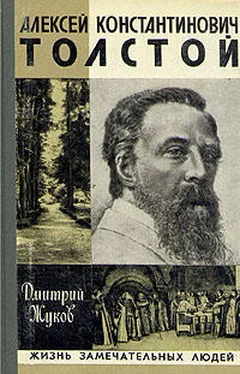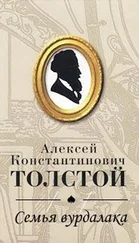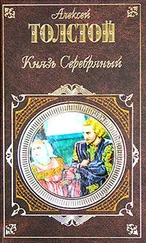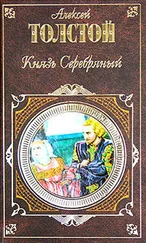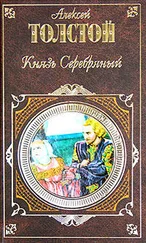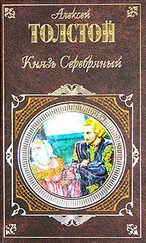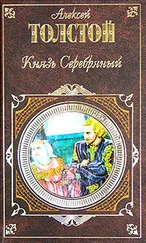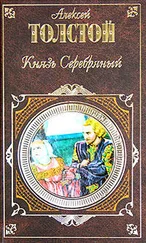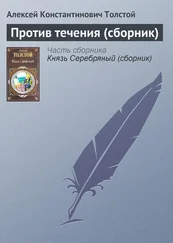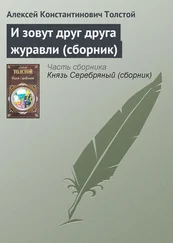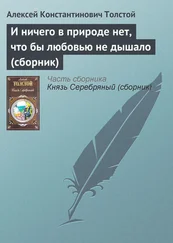Толстой возил рукопись с собой всюду, работал урывками, сердился на неровности в стиле и на героя своего, который казался ему «бледнее» всякого первого любовника, глупого и храброго. После войны его любимое детище, как он писал Софье Андреевне, вроде бы было закончено, оставалось только «поработать над героем», заинтересовать читателя характером человека благородного, «не понимающего зла, но который не видит дальше своего носа и который видит только одну вещь за раз и никогда не видит отношения между двумя вещами». Роман или хотя бы главы из него просили для своих журналов Некрасов и Дружинин, но Толстой так и не решился опубликовать что-либо, а тем временем произведение насыщалось народной речью, сказками да прибаутками, не только вычитываемыми в сборниках, но и записанными самим романистом. «Песни сладкие, гусли звонкие, сказания великие» зазвучали в романе с новой силой. Притчи, былины, апокрифы, загадки, плачи, заговоры - чего только не использовано в речи персонажей! Это целая энциклопедия старинной русской словесности и фольклора. Источников, прочитанных Толстым, не счесть. Письмо царя Алексея Михайловича начальнику соколиной охоты, летописи, старинный «Судебник», «Голубиная книга», «Сказания русского народа», «Песни русского народа», «Русские народные сказки», собранные И. П. Сахаровым, - это лишь малая часть того, что держал Толстой в своей великолепной памяти. Отчетливо чувствуешь удовольствие, с которым Алексей Константинович выписывал разговор разбойников Перстня и Коршуна, притворившихся слепыми муромскими сказочниками, с царем Иваном Грозным.
- А есть еще у вас богатыри в Муроме? - спрашивает царь.
«Как не быть! Этот товар не переводится; есть у нас дядя Михей: сам себя за волосы на вершок от земли подымает; есть тетка Ульяна: одна ходит на таракана».
Или вот еще их прибаутки:
«Это, вишь, мой товарищ, Амелька Гудок; борода у него длинна, а ум короток; когда я речь веду скромную, не постную, несу себе околесную, он мне поддакивает, потакает да посвистывает, похваляет да помалчивает. Так ли, дядя, белая борода, утиная поступь, куриные ножки; не сбиться бы нам с дорожки!
- Вестимо так! - подхватил Коршун... - Наша чара полна зелена вина, а уж налил по край, так пей до дна! Вот как, дядя петушиный голосок, кротовое око; пошли ходить, заберемся далеко!
- Ай люли тарарах, пляшут козы на горах! - сказал Перстень, переминая ногами, - козы пляшут, мухи пашут, а у бабушки Ефросиньи в левом ухе звенит!..
- Ай люлюшеньки-люли! - перебил Коршун, также переминая ногами, - ай люлюшеньки-люли, сидит рак на мели; не горюет рак, а свистит в кулак; как прибудет вода, так пройдет беда!»
И не простые это прибаутки, не ради красного словца говорятся - за каждой тайный смысл, понятный разбойникам и... читателю, но не царю.
И как тут не вспомнить слепцов, которым так обрадовался Толстой в Погорельцах. Тогда он вернулся на несколько месяцев к роману, «но не кончил его - недоставало душевного спокойствия». Собрался было через несколько месяцев предложить Погодину главу из романа в сборник «Утро», однако потом извинился: «Мой роман доселе не подчищен и не может выступить в свет в неприличном виде, даже и отрывком. Тысячи мелочей помешали мне им заняться».
20 марта 1860 года Толстой сообщает Маркевичу, что вторая часть «Князя Серебряного» закончена, но обнаружилось, что она отличается по стилю от первой, и надо снова работать. Он начинает беспокоиться о том, как цензура отнесется к образу грозного Ивана Васильевича. Меньше тревожили его анахронизмы, которые он допустил в романе, несмотря на свою добросовестность в изучении исторического материала. События надо было сконцентрировать, и потому он подверг казни Вяземского лет на пять раньше, чем это было на самом деле. Придется анахронизмы оговорить в предисловии. Отрезал же Гёте голову своему Эгмонту на двадцать лет раньше срока...
И вот дошла очередь до предисловия к роману, до извинений в допущенных анахронизмах. Длительную же работу свою он объясняет так:
«В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их по возможности в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году».
Читать дальше