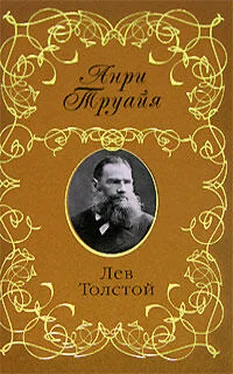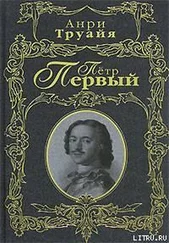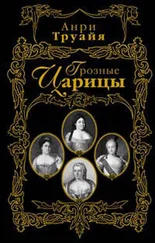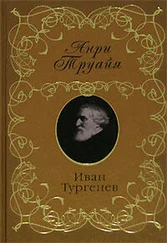Лев Николаевич был сражен этим, Саше пришлось увести его в соседнюю комнату. Оставшись с глазу на глаз с Чертковым, Софья Андреевна, с ненавистью глядя на него, потребовала сказать, где дневники и по какому праву он их держит у себя. Владимир Григорьевич уступать не собирался и немедленно перешел в наступление – вся его любезность исчезла в один миг. Он резким тоном заметил, что графиня не имеет права вмешиваться в отношения между учителем и учеником: «Вы боитесь, что я вас буду обличать посредством дневников. Если б я хотел, я мог бы сколько угодно напакостить… вам и вашей семье… но если я этого не делал, то только из любви к Льву Николаевичу!» И, направляясь к двери, добавил, что «если бы у него была такая жена, он застрелился бы или бежал бы в Америку!» [665]
Софья Андреевна не дала ему уйти и потребовала, чтобы он в присутствии ее дочери и мужа пообещал хранить дневники, пока их у него не потребуют. «Хорошо, – согласился Чертков, – только не вы, а Лев Николаевич». И немедленно составил расписку: «Дорогой Лев Николаевич. Ввиду вашего желания получить обратно от меня дневники ваши, которые вы мне передали для исключения из них указанного мне вами, я поспешу окончанием этой работы и верну эти тетради, лишь только окончу эту работу».
«А теперь, – сказала графиня, – пусть Лев Николаевич напишет расписку, что обещает вернуть дневники мне!»
«Какие же расписки жене, это даже смешно», – воскликнул Толстой. И добавил, склонясь к бороде: «Обещал и отдам».
Но его нежелание сделать это было столь очевидным, что Софья Андреевна записала в дневнике: «Но я знаю, что все эти записки и обещания один обман… Чертков отлично знает, что Льву Николаевичу уже не долго жить, и будет все отлынивать и тянуть свою вымышленную работу в дневниках и не отдаст никому».
Впрочем, все это не помешало ей на следующий день весьма любезно принять матушку Черткова, «женщину очень красивую, возбужденную, не вполне нормальную и очень уже пожилую», которая много говорила о своей душе, своих утратах, своих землях и верила, что в ней живет Христос. Софья Андреевна провела с ней восхитительный день, но что за мучение было видеть Черткова, сидящего на диване рядом с ее Левочкой! Они о чем-то шептались, почти касаясь друг друга коленями. «Меня всю переворачивало, – отметила она в дневнике, – от досады и ревности». [666]В довершение к этому вечером разговор зашел о безумии и самоубийстве. Графиня вмешалась с просьбой сменить тему. Толстой возразил, что идет обсуждение его статьи. Жена настаивала, что все это нарочно, что разговор возобновляется, стоит лишь ей показаться на пороге, и что можно было проявлять больше такта.
Она не спала всю ночь – перед глазами были Лев Николаевич и Чертков, сидящие бок о бок. Воспаленный ум рисовал картины противоестественной связи седобородого учителя и дородного ученика.
Несмотря на усталость, утром Софья Андреевна была полна решимости продолжать борьбу. Сначала нанесла ответный визит вежливости Чертковой, оттуда направилась в имение Звегинцевой, имевшей связи в Петербурге, просить о содействии – помочь добиться, чтобы Владимиру Григорьевичу вновь запретили появляться в Тульской губернии. Силы ей придавал приезд в Ясную союзника – сына Льва, который придерживался взглядов, противоположных отцовским. Однажды ему удалось поставить Черткова на место, когда тот пытался наставить его на путь истинный. Казалось, все сошлось как нельзя лучше и можно начинать наступление.
В ночь на одиннадцатое июля Софья Андреевна в очередной раз потребовала от Левочки отдать ей дневники, хранящиеся у Черткова, ходила взад-вперед перед комнатой мужа, угрожала, умоляла. Тот заклинал об одном – дать ему поспать. Графиня обвиняла его в том, что он хочет ее прогнать, грозила убить Черткова и, в чем была, бросилась из дома. Ее не было долго, обеспокоенный Толстой пошел будить сына Льва и доктора Маковицкого, чтобы отыскали несчастную. Она лежала на мокрой траве. Сказала, что муж прогнал ее, как собаку, и не вернется, пока он сам не придет просить ее об этом. В негодовании Лев побежал в дом, стал кричать на отца, что тот не имеет права оставаться в тепле, когда его брошенная, оскорбленная жена грозит убить себя. Подталкиваемый сорокалетним сыном, Толстой, скрепя сердце, последовал в сад. Утешив и проводив ее в дом, записал: «Жив еле-еле. Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной». Совершенно разбитые, супруги заснули, каждый в своей комнате.
Читать дальше