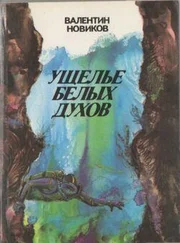МАСЛЮКОВ Валентин
"ЧЕТ-НЕЧЕТ"
ГЛАВА ПЕРВАЯ. В КОТОРОЙ ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ФЕДЬКИ
Раздался негромкий треск, телега дернулась, с не оставляющим сомнений скрежетом перекосилась, и лошадь стала.
Подломилась ось.
Не выказав себя лишним движением или словом, возчик стащил с головы суконный колпак, неспешно отер пот и водрузил колпак на место, надвинув облезлый меховой околыш на самые брови. Спутники, скрывая тревогу, помалкивали.
Прозванный за глубокомысленный прищур Мезеней, возчик был склонный к обобщениям человек. Он знал, как, к примеру, ломается ось на бревнах московской мостовой. Или среди топей осенней лужи. Или – вот тебе еще образец – в мрачных сумерках леса: колесо подвернется на колоде, затрещит и в самом нутре твоем что-то ахнет.
В степи, на раздольном дочерна битом шляху, малым разве не посередке Дикого поля Мезеня подломился в первый раз. Этим, видимо, и объяснялась его задумчивость.
Впереди, далеко-далеко, там, где темнел небрежно отчеркнутый по краю земли лес, в расползающихся облаках пыли уходил обоз.
– Ловить по заставам зажигальщиков, – сказал Мезеня вне всякой связи с подломленной осью и уходящим без надежды догнать обозом. – Как же – ловить! Вот я тебе зажигальщик. Я Москву подпалил от Неглинной до Покровских ворот. Она там, вот скажем для примера, горит. А я себе с Москвы на богомолье иду. К примеру. И вот ты теперь меня лови. Ну-ка – лови!
Каверзный вопрос этот Мезеня обращал к Федору Малыгину, как к человеку служилому и, надо полагать, причастному государственным хитростям. Но Федор, нежного сложения юноша, лишь улыбался ничего не значащей и оттого еще более милой, почти детской улыбкой. Отозвался вместо служилого Афонька Мухосран, тощий беспокойный мужик в растрепанных черных кудрях. Афонька хихикнул, торопливо подавившись смешком:
– Которые с Москвы бредут – поджигальщики, а которые к Москве, ну, те еще нет.
Возчик в ответ хмыкнул, Афоньку разговором не удостоил и даже как будто вздохнул, сокрушаясь человеческому легкомыслию. Потом он огляделся, прикидывая, где тут в степи отыскать дубок. Ничего не поделаешь – нужно было оставить намятое сиденье – сложенную в несколько раз баранью шубу. И выпрягать лошадь придется, и снимать с телеги сундук и рухлядь. И, почесавши потылицу, осенив себя крестным знамением, браться за топор.
Шумно отдуваясь, Мезеня с Афонькой оттащили сундук на потоптанную обозом траву, и здесь в сторонке пристроился Федька.
Подьячий Посольского приказа Федор Малыгин гляделся тоненьким, не впрок себе вытянувшимся мальчишечкой лет эдак на восемнадцать. Меньше не дашь, меньше никак не выходит, если взять в соображение чин и прочие обстоятельства. По обстоятельствам этим следовало считать подьячему лет двадцать с доброй еще прибавкой. А лицо чистое, по девичьи юное – детское, словно бы до сей поры ничей кулак не встречался с Федькиными слегка припухлыми от нетронутой свежести щеками. И до сей поры, похоже, не плевался еще парень кровью, не шатал, скривившись, меж разбитыми губами зуб. Язык вот не повернется сказать, что у Федьки Малыгина рожа или харя, то есть действующее лицо слободской драки. Скорее уж нежный подьячий приспособлен был для любовной истомы. Глаза у мальчишечки хорошие, карие, под такими тяжелыми да густыми ресницами, что не враз, кажется, и подымет. Губы у Федьки мягкие, влажные, поцелует, чудится, – молоком дохнет. Шея у Федечки тонкая, а запястья… это уж и видеть нельзя без сердечной боли!
И, однако же, несмотря на такое-то слабодушное обличье, Федор Малыгин имел при себе проезжую грамоту с большой печатью красного воска на шнурах. Отчего, впрочем, не особенно заносился. Держался подьячий молчаливо, чрезмерного ничего не требовал, мелкие услуги возчика принимал с улыбкой и просто, как нечто по взаимному человеческому расположению самоочевидное. Приблудный попутчик их Афонька Мухосран волей-неволей усвоил по отношению к Федору предупредительный тон. Что было бы только понятно, если бы посольский подьячий разок-другой ткнул кулаком в рыло или уж, на худой конец, матюгнул для порядка, юношеским ликующим голоском обозвал бы полуседого мужика сукиным сыном. А подьячий вот даже голос ни разу не повысил.
Мухосрана, верно, и без понуканий завораживал сам собой блеск золотого перстня на руке у подьячего. И вишневая бархатная шапка чаровала. И дорогая, рублей в двадцать, ферязь – свободный и длинный кафтан с откидными рукавами, крытый сине-зеленым, в цветах персидским шелком. И даже сапоги из зеленого сафьяна, узкие, на каблуках, по голенищу вышитые, внушали Мухосрану многосложные, противоречивые чувства.
Читать дальше