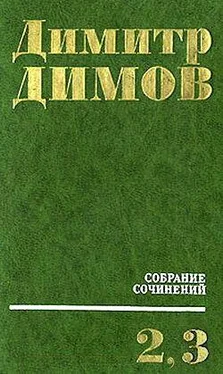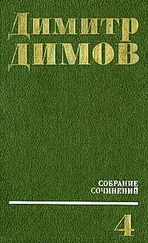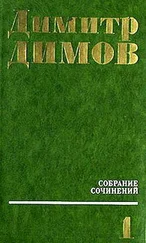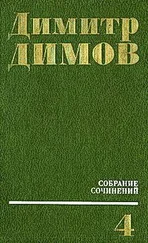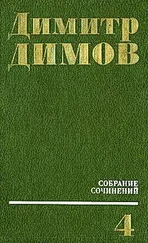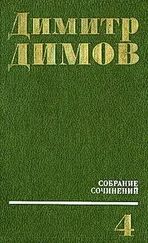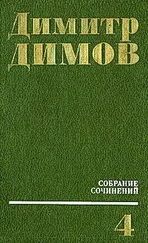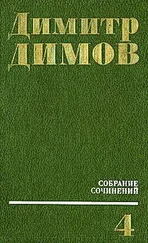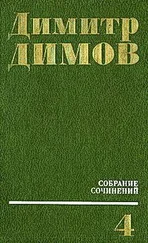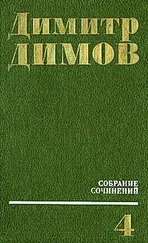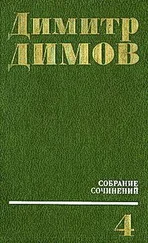Она была похожа на него. Но если его лицо отражало твердость и властную жизненную силу пирата, то от ее серых глаз и тонких, почти бескровных губ веяло унынием дождливого дня. Впечатление это усиливалось еще и тем, что она совсем не красилась. Мария тоже обмотала голову ярким шарфом, от которого ее бледное лицо и пепельно-русые волосы казались еще более тусклыми. Хороши были у нее только ноги, длинные и стройные, но и они не соблазняли – плоская грудь и мальчишеская холодность отталкивали мужчин от этой девушки.
Она затянулась сигаретой и устремила на равнину неподвижный взгляд печальных, без блеска глаз. Утренняя прохлада сменилась зноем, и над сжатыми нивами нависла духота летнего дня. Там и сям близ селений размеренно пыхтели двигатели молотилок. Загоревшие до черноты мужчины в соломенных шляпах сбрасывали снопы. На выгоревших от засухи деревенских выгонах лениво паслись овцы. Оборванные пастушата стояли, опершись на свои крючковатые посохи и уставившись на скользивший по шоссе автомобиль и сидящих в нем людей. Их псы бросались к машине и бежали за пей, но вскоре отставали и лаяли долго и злобно.
После разговора с Зарой Мария почувствовала облегчение. Так! Формула найдена. На кокетство Зары надо смотреть как на невинную прихоть: Заре хочется развлечь утомленного человека – вот и все! Теперь Марию уже не должна смущать ни подозрительная нежность, с какой ее приятельница опирается на плечо ее отца, ни намеки, которыми они обмениваются, делая вид, что шутят. Она вспомнила другую формулу, помогавшую ей спокойно выносить присутствие любовника ее матери. То был гвардейский ротмистр, кукла, индюк в красном мундире. Мария его терпеть не могла, но должна была держаться с ним любезно, чтобы казалось, будто он приходит ради нее. Третья формула спасала ее от неприятной необходимости быть грубой. Надо было только притворяться, что считаешь себя привлекательной. Свора обожателей клялась ей в любви, и каждому она должна была отвечать, что верит его словам, но еще не решила выходить замуж. Была у нее и четвертая формула: принимая подобострастную лесть профессиональных музыкантов, Мария делала вид, что считает себя первоклассной пианисткой; пятая формула помогала щадить гордость бедных приятельниц, а шестая была направлена на то, чтобы ее не считали нелюдимой. Вся жизнь Марии была опутана сетью формул, которыми она прикрывала и маскировала ничтожество, падения и глупости людей, среди которых жила. Сейчас она вспоминала эти формулы одну за другой и внезапно почувствовала невыносимую усталость от того терпения, с каким она их применяла. Но эта усталость не была ни нравственным протестом, ни бунтом. Марии просто хотелось отдохнуть, вырваться на миг из их пут. Ее охватило желание остаться одной, никого не видеть, пожить в таком месте, где ее никто не знает. Пожить хоть десять дней простой, естественной жизнью, без дансингов и общества, какое собирается на больших курортах, без софийского запаха резиновых шин и бензина. Поиграть на рояле в тиши вечерних сумерек, когда шумят сосны, с гор веет ветер и луна озаряет все вокруг печальным зеленоватым светом. Мария могла бы найти этот покой в Чамкории, [20]где у Спиридоновых была вилла, но сейчас там отдыхала ее мать с «индюком» в венгерке, украшенной серебряными шнурами. Марии не хотелось нарушать их идиллию. Мать и дочь молчаливо согласились – опять-таки при помощи найденной для этого формулы – не мешать друг другу.
Мария унаследовала от отца его ум, способность проникать в душу людей, отчасти его эгоизм и даже капельку его грабительского инстинкта. Но она была совершенно лишена его бьющей ключом жизненной силы. Ее ум не давал ей погрязнуть в дурацких пустяках, как погрязла ее мать. Она не была ни злой, ни великодушной. Ее уменье понимать людей и разбираться в условностях с детства притупило в ней нравственное чувство. И теперь она была твердо уверена, что нет ни добра, ни зла и что нет никакой необходимости проводить различие между ними. Зная, что такое свет, утомлявший ее своими падениями, она смотрела на него холодно и равнодушно. Она не была ни счастлива, ни несчастна. И очень часто думала с мягкой насмешкой философа, что сама она всего лишь бесцветная, никому не нужная вещь.
Мотор взревел, и стрелка опять прыгнула на девяносто. Папашу Пьера – так его называли и родные, и все служащие фирмы – снова обуял демон скорости. Зара пробуждала в нем необузданность дикаря, которая в дни юности бросала его в самые рискованные предприятия и помогала ему наживаться. Он забыл о своем артериосклерозе, миокардите, следах паралича правого века – результате последнего удара. Мария наклонилась и бросила взгляд на спидометр. Стрелка показывала сто километров. Корпус машины дрожал от напряжения, воздух свистел, а деревья и кусты отлетали назад, будто сметенные вихрем. Да, папа перебарщивал!.. Мария хотела было сердито прикрикнуть па него, но вспомнила о формуле и не стала ничего говорить. Она не боялась катастрофы. Она только чувствовала себя униженной мальчишеством отца и тем, что Зара снова начинает вертеть им. Зара собиралась ехать с ним дальше на юг, в Салоники, а может быть, и в Афины, по все-таки это было лучше, чем если бы они показывались вместе в Софии или Варне. Если они поедут в Грецию, Мария останется в городке, чтобы отдохнуть в одиночестве в том доме при складе, который она смутно помнила с детства.
Читать дальше