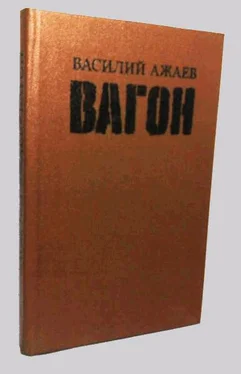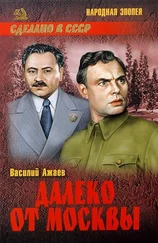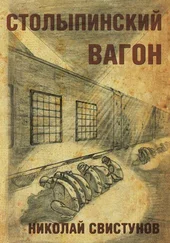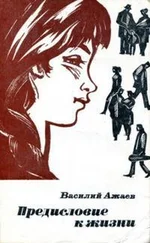Я возвращался с допроса, меня плотно обступали и требовали рассказа с подробностями, затем начиналось обсуждение.
— Злится сыщик, значит, у него ничего серьезного. Выпустит. Что он возьмет с огольца?
— Взять-то с него нечего, но не любят они выпускать. Этот со шпалами вполне может пришить дело за здорово живешь.
— Только посмотри, кому шить-то. Парнишка прозрачный, весь насквозь виден. Зачем он пучеглазому?
И снова мне внушали:
— Только не подписывай протокол.
Подписывать ничего не пришлось. К следователю меня водили еще дважды и больше не вызывали. Мои товарищи по несчастью посчитали это за благоприятный признак.
— Отступился он от тебя. Теперь подержат немного для порядку и отпустят. Ты верь нашему опыту, мы теперь мудрые.
Получилось по-иному, мудрые просчитались Долго не тревожили меня, очень долго, целые две недели, и вдруг вызывают. Камера оживилась:
— Вот и все. Каюк твоей тюрьме, Митя.
— Готовьте, ребята, адреса и весточки на волю, Митя всех уважит.
Шел я длинными коридорами, счастливо думая: прощай, тюрьма, казенный дом, прощай. Ввели в кабинет. Сидит важный дядя с ромбом на петлице, предлагает ознакомиться с коротенькой бумажкой. «Особое совещание НКВД. Постановление по делу Промыслова Д. М. За антисоветскую пропаганду приговорить к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере».
Все как во сне: прочел, что-то сказал. Дядя с ромбами попросил расписаться, я помотал головой, отказался.
— Как хотите, обойдемся без автографа, только пометим: отказался.
Не помню, как шел обратно теми же коридорами, мимо бесчисленных железных черных дверей. Вернулся в камеру. Мудрые, с опытом, вы просчитались.
Никто из них ничего не спросил, увидели по лицу: парнишку осудили, готов. Горя каждому хватает своего, но тут по камере прошел вздох.
— Мальчишку и то не пожалели.
Камера затихла, приуныла. Мой случай примеряли, наверное, к себе: если ему три года, что ждет меня?
Кубенин подсел, обнял, заговорил — похоже, он был доволен.
— Видите, Митя, я оказался прав. Другого не могло быть. Ураган озлобления идет по стране, он ведет счет тысячами, большими тысячами, отдельный человек роли не играет, и для него исключения не делают. Вы не горюйте, три года — пустяки. Пролетят, и вы быстренько вернетесь, как Овод, только Овод, помнится, исчезал на целых десять лет.
Я стиснул зубы, попросил его замолчать, отстать от меня. Но Кубенин продолжал, он ведь еще не высказался:
— Вернетесь в ореоле героя, девушки будут сходить с ума. Вернетесь умным, хитрым, мудрым, как Овод. Имейте в виду: тюрьма — лучшая школа. Как Овод, вы будете мстить. Вы хорошо узнаете, что такое месть за страдания.
— Перестаньте! — заорал я, вскакивая и весь дрожа. — Перестаньте, вы, подлая контра!
— Пожалуйста, перестану, — согласился он. — Я вас жалею, чудак, учу уму-разуму. Вы пока глупенький. На таких воду возят. А насчет контры, так я еще не осужденный, я просто подследственный. А вы уже… официальная, так сказать, контра.
Не сразу я понял ужас этого злого упрека, высказанного с улыбкой. Упрека, от которого сразу начинаешь задыхаться. Упрека, на который не знаешь, чем отвечать. Да, ты арестант, потом осужденный, потом заключенный в лагере. И тебе нечего сказать в ответ.
— Митя, слушай сюда!
Надо мной стоял староста Иван Павлович. Он сказал Кубенину «Уйди к черту!» и подсел ко мне. В руке у него был стакан, в другой маленький кусочек круто посоленного хлеба.
— Выпей.
— Не надо, не хочу.
— Пей, это водка, она успокаивает. И ложись, усни. Утро вечера мудренее.
Вдруг пуля просвистела
и товарищ мой утих.
Я вырыл ему яму,
он в яму не ползёть…
Ой-ёй-ёй, товарищ мой утих.
Ой-ёй-ёй, он в яму не ползёть…
Я вырыл ему яму,
он в яму не ползёть…
Я двинул ему в ухо,
он сдачи не даёть.
Ой-ёй-ёй, он в яму не ползёть.
Ой-ёй-ёй, он сдачи не даёть…
Нелепая эта песня чаще других раздается в камере. С визгом и лихим свистом она звучит в ушах даже тогда, когда самые отъявленные певцы спят или заняты каким-нибудь другим делом.
Я плюнул ему в морду —
он обратно не плюёть.
Я глянул ему в очи —
приятель мой помер.
Ой-ёй-ёй, приятель мой помер…
Ой-ёй-ёй, приятель мой помер…
Отчаянный вопль «Ой-ёй-ёй» почти помогает, так хочется самому взвыть от тоски и отчаяния. Ловишь себя на том, что губы повторяют: «Ой-ёй-ёй, Митя, ты помер… Ой-ёй-ёй».
Читать дальше