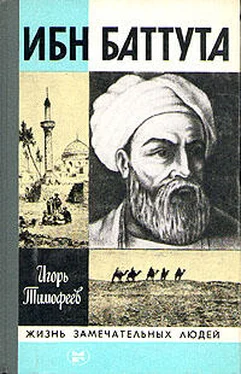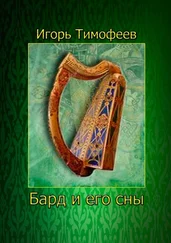Толпа заинтригована. Протиснувшись сквозь кольцо зевак, в круг выходит чернявый долговязый купец из Сеуты в синем джиллабе, подпоясанном широким кушаком. Ему не терпится узнать свою судьбу — ведь имя его начинается на «син», а в мешке у него золотые поделки.
Прорицатель склоняется над астролябией, покачивает головой, бормочет что-то и наконец объявляет свое заключение:
— Ты средоточие всех несчастий, ибо не способен держать язык за зубами. Зато не проронишь и слова, получив тысячу затрещин…
Взрыв хохота. Обескураженный торговец, почесывая шею, словно и впрямь получил оплеуху, покидает круг. На его место протискивается другой.
— В этом году аллах повелит облакам столкнуться, волнам морей сшибиться, ветрам дуть, земным тварям ползать. Наверное, изменятся цены, и некоторые торговцы получат прибыток…
Толпа настораживается, затаив дыхание ждет. И снова смех, й вновь люди видят перед собой не степенного астролога, а лукавое, улыбающееся лицо рыночного мошенника, неудачника и прощелыги, который вышел на праздничную площадь, надеясь, что ему повезет, и куда больше рассчитывал на природный юмор и острый язык, чем на благоприятное расположение звезд…
Кого только не увидишь на ярмарке! Вот торговец амулетами. На расстеленной мешковине лежат завернутые в кусочки красной кожи талисманы. На них шафраном или ляпис-лазурью начертаны чудодейственные слова заклинаний, оберегающие от дурного глаза, козней шайтана и власти злых джиннов… А рядом вовсю торгует заезжий фармацевт.
— Одно зернышко моего лекарства, — обещает он, — превращает ненависть в любовь, малая толика его стоит жемчуга. Подходи, кого покинула возлюбленная, на кого гневается султан или покушается шайтан!
А вокруг, как разбуженный муравейник, гудит ярмарка. Собравшиеся в кружок дервиши шевелят онемевшими губами, повторяют имя аллаха. Их глаза полуприкрыты воспаленными веками, на обветренных шеях вздулись синие жилы…
Шумно и весело в Танжере в сезон праздников.
Но и в будни у мальчишек хватает забот. Чем не развлечение глядеть, как у гостиного двора собирается в далекий путь торговый караван! В такие дни мальчишки прибегают к караван-сараю задолго до рассвета.
Приглашая правоверных к молитве, высоко и пронзительно поет невидимый в темноте муэдзин.
— Аллах велик! — Множимые эхом, летят слова азана над плоскими крышами и садами, дремлющими в белых хлопьях предрассветного тумана. Хрустит под босыми ногами набухший ночною влагою песок, от моря тянет сыростью и запахом соли. В лавках по обеим сторонам улицы хлопают двери, загораются яркие светляки масляных ламп. На влажных ступеньках мечети, позевывая и кутаясь в лохмотья, поднимаются, недовольно таращат глаза нищие.
Во дворе караван-сарая давно уже суета. Громко кричат погонщики-бедуины, постукивают по верблюжьим коленям гибкими прутиками, и животные, нехотя подгибая передние ноги, опускаются потертыми брюхами на песок, напрягаются под тяжестью перехваченных шелковыми веревками вьюков, пузатых кувшинов в соломенных оплетках, кожаных мехов с водой.
Первым из ворот постоялого двора показывается крытый парчовой накидкой верблюд караванвожатого, за ним, позвякивая нашейными бубенцами, выходят связанные по семь верховые и тягловые верблюды, следом вырываются на площадь, гарцуют, кося головы набок, стройные ухоженные скакуны конвоя. Паломники идут пешком, раскланиваются направо и налево, отвечают на приветствия.
Вот они скрываются в горловине мощеного, сползающего вниз, к морю, проулка, а мальчишки глядят как зачарованные в сторону крепостной стены, где в прорезях зубчатки угадывается чуть розовеющий горизонт…
* * *
С того времени, как мальчик начинает помнить себя, главным человеком в его жизни становится отец. Еще раньше, когда, подражая голосам взрослых, малыш учится складывать слова, отец добивается, чтобы первой произнесенной им фразой была формула единобожия, символ веры: «Нет бога, кроме аллаха…» Понимание смысла этих слов придет потом, гораздо позднее той неоспоримой истины, что до поры до времени в мире нет иного бога, кроме отца.
По утрам мальчик проходит на мужскую половину, целует отцову руку и, положив свою худенькую правую ручонку на левую, прижатую к груди, застывает в почтительной позе, ждет его указаний или разрешения удалиться.
Пройдет еще немало лет, прежде чем отец разрешит ему сидеть в своем присутствии, но никогда не осмелится сын перебить отца в разговоре или повысить голос.
Читать дальше