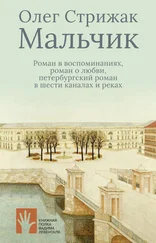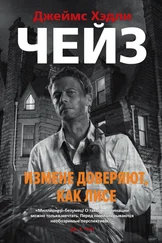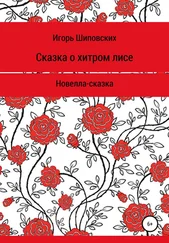Если же не выходить за пределы Старого Света и за хронологические границы Средневековья, то допустимо наметить следующие закономерности. Мы можем говорить о трех различных трактовках животных в фольклоре и литературе. В одном случае лис играет роль трикстера и наделяется целым комплексом снижающих признаков (он характеризуется изворотливостью, вороватостью, лживостью, хитростью, льстивостью, себялюбием и т.п.). При столкновении с человеком он может одержать над ним временную победу — обмануть, перехитрить и т.п., но в целом оказывается слабее. И показательно, что в столкновение с людьми приходят лишь звери «низших» рангов: мы не увидим в этой роли, например, льва. Но при этом звери на свой лад дублируют поведение людей. Понятно, что такой подход характерен для европейской культурной зоны. Совсем иначе — в Восточной Азии. В восточноазиатской традиции лис (лиса), восходя подчас к культурному герою, первопредку, обладает целым рядом магических свойств. Он оказывает человеку помощь или наказывает его, легко принимает человеческий образ и даже может вступать с человеком в брачные отношения. Это же относится и к ряду других животных. Мотивы эти очень сильны в китайском и японском фольклоре и были с особым литературным мастерством разработаны замечательным китайским писателем XVII в. Пу Суцлином, создавшим устойчивую традицию рассказов о «лисьих чарах». Очевидно, что здесь нет дублирования животными поведения людей; животные от человека отъединены, противопоставлены ему как существа из совсем иного, демонического мира, с иными возможностями и свойствами. Третий вариант мы находим в ближневосточном и центральноазиатском регионах. На первый взгляд трактовка животных не отличается здесь от той, с которой мы сталкивались в Европе. Но здесь нет противостояния мира животных и мира людей. Согласно широко распространенному на Востоке учению о метампсихозе, это не два мира, а один, но лишь в разных формах существования. Поэтому животное, напоминающее своим поведением человека, не является здесь комическим персонажем, как не является им и животное, чьи повадки не соответствуют поведению реального зверя. Такой подход к изображению животного мира отразился в «Панчатантре» и был кое в чем воспринят и на Ближнем Востоке, благодаря переводам этой книги на персидский и затем на арабский языки.
Вернемся, однако, к поэме Ниварда Гентского. От нее до «Романа о Лисе» был один шаг. Но он был очень значителен. Как показал Ж. Бишон [29] См.: Bichon J. L’Animal dans la littérature française au XII-ème et au XIII-èmo siècles. Lille, 1976, c. 464—463.
, в первой по времени создания «ветви» «Романа» перед читателем было уже совершенно новое произведение, хотя оказались переставленными лишь некоторые акценты. В центр повествования был теперь поставлен новый горой— лис Ренар. Волк Изенгрин продолжал играть очень существенную, но все-таки подчиненную роль. «Роман о Лисе» в совокупности своих «ветвей» стал историей жизни Лиса, а не волка, как было у Ниварда. Кроме того, в отличие от латинской поэмы, в «Романе» все приключения персонажей уже обусловливались не вторжением неких высших сил, не роком, не Фортуной (изображение которой, продиктованное идеей неотвратимости круговорота бытия, было столь любимо художниками Средних веков). Персонажи были теперь выведены в повседневной действительности и выступали уже в новом обличье: Нивард все-таки слишком интересовался жизнью монастыря, и действительность, в которой действуют его герои, сконструировал по монастырской модели, в романе же о Лисе перед читателем разворачивается жизнь вполне реального леса (пусть его обитатели и наделены условными характерами людей) и столь же реальных средневековых селения, города, замка (хотя их жители и не лишены звериных повадок).
По-старофранцузски лисица называлась goupil (от лат. vulpes). После появления «Романа о Лисе» имя его главного персонажа вытеснило прежнее наименование и стало обозначать лису. Появилось словечко renardie — козни, плутни (с резко отрицательным оттенком) и соответствующий ему глагол renarder. Но даже если бы этого не произошло, у нас есть немало свидетельств огромной популярности произведения. Оно сохранилось в десятках рукописей, имена большинства его персонажей, быстро став нарицательными, мелькают в произведениях других жанров. И, естественно, после сложения основного корпуса «Романа» стали возникать его продолжения, переделки и переводы, причем не только на французском языке, но вскоре и на немецком, фламандском, английском и др. Одна из фламандских поэм была, в свою очередь, переведена на немецкий, много раз перерабатывалась вплоть до изобретения книгопечатания, много раз издавалась и стала известна Гёте.
Читать дальше


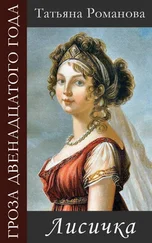


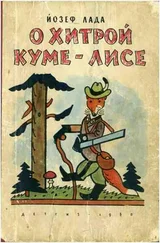
![Георгий Меновщиков - О честном вороне, коварной сове и глупом лисе [Эскимосские сказки]](/books/388241/georgij-menovchikov-o-chestnom-vorone-kovarnoj-sove-thumb.webp)